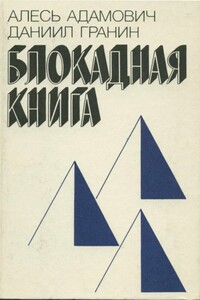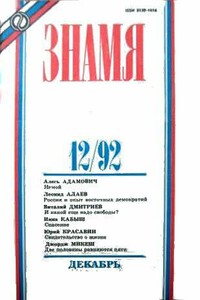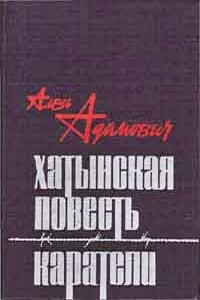"Врата сокровищницы своей отворяю..." | страница 37
«...солдаты дразнили избитых и посмеивались, особенно те, кто спал и кому удалось убежать. Однако избитые, с красными от пощечин физиономиями, недолго были обескуражены и вскоре смеялись вместе со всеми».
«Трофей» военный Максима Горецкого — суровая, не простая правда всего этого, правда человеческого поведения в исключительных обстоятельствах, когда смерть все рушит и когда человеческое проявляется как в действии, «реакции» массы, так и в индивидуальном часто вопреки массе.
...Когда всеобщая паника, а кто-то первый останавливается и останавливает других... Когда тупое презрение к «нехристям» — в своей же армии, а кто-то (тот же рассказчик Левон Задума) с подчеркнуто дружеской лаской относится к веселому и храброму («расклеился мой милый жиде!») Беленькому. Да и самому доводится слышать от штабного холуя: «Охота ведь писать газеты на таком свинячьем языке». Это — о белорусской газете.
***
Однако чаще всего человеку на войне доводится противостоять двум противникам и тем самым утверждать себя и свою человеческую сущность.
Противостоять той силе, которая хочет уничтожить тебя физически — это вне тебя.
И той «силе», которую обычно называют и считают человеческой слабостью — которая внутри, которая гнетет человека к земле, лишает воли как раз тогда, когда надо подняться в атаку, «работать» под обстрелом, под пулями и разрывами снарядов.
Для той, для первой мировой войны «противник», «германец» — понятие скорее официальное, чем личное.
Для таких людей, как Максим Горецкий, во всяком случае.
Нет, он знает и своими глазами видит, что такое пруссак, когда он приходит к повергнутым, хотя бы и временно повергнутым, как ведет себя он «по-свински» с мирными жителями. (Об этом особенна правдиво и жестоко расскажет в «Литовском хуторке».)
Но ведь война — несправедлива с обеих сторон. И это душой чует молодой солдат и писатель, чуткая (и всегда крестьянская) душа его протестует против того, что творит, как поступает царская армия с крестьянским скарбом, когда наступает по земле противника.
Вообще, сравните (в целом) литературу о первой мировой войне с той, которая пишет вторую мировую — с гитлеровцами войну, как почувствуете сразу такую разницу: «противник» ту литературу интересовал несравненно меньше, чем антифашистскую. И это — хотя, может быть, не в такой же степени, как нашей,— но касается и литературы западной.
Нетрудно объяснить — почему оно так, в чем причина.
Передовая литература 40-х и более поздних годов ощутила себя морально, политически мобилизованной (сама себя мобилизовала) на борьбу с противником, угрожающим самим основам человеческой цивилизации.