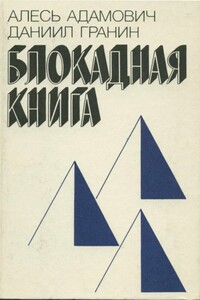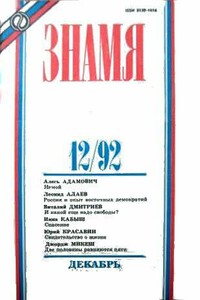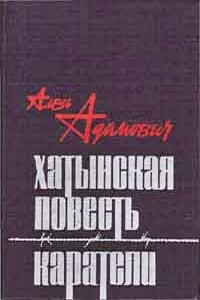"Врата сокровищницы своей отворяю..." | страница 24
— Пойдем, пойдем, моя рыбонька! Вместе работаем, вместе спляшем. Пусть любуются добрые люди, как мы гуляем.
И пошла-пошла старуха, отступая задом, подпрыгивая по-сорочьи: хлопала в ладоши и веселыми глазками пристально вглядывалась в молодуху, а та, одной рукой подхватив край фартука и другой плавно взмахивая у головы, плыла за свекровью с едва заметной улыбкой, в которой постоянное затаенное страдание спешило теперь навстречу безудержному веселью и поддавалось ему.
Старуха запела старческим, дрожащим и ласковым голосом:
Ты, невестушка,
Ты — лебедушка!..
И молодуха сразу подхватила:
Матушка моя старенька,
Как голубка седенька!
И все были поражены чистым и звонким голосом этой тихой и молчаливой невестки Петрока».
***
Уже раннему творчеству Максима Горецкого свойственно то, что мы видим и у других классиков белорусской литературы — в произведениях Купалы, Коласа, Богдановича. Они умеют видеть свет во тьме, видеть духовную силу, нравственную мощь угнетенного люда.
Однако каждый видит и показывает по-своему.
Янка Купала — с обязательной дистанции, исторической, романтической («Гусляр», «Бондаровна», «Она и я»).
Якуб Колас, наоборот, так приближает к себе и к читателю сам быт крестьянина, все его хлопоты и всякую его радость, что и далекое становится близким, согревается живым человеческим теплом. И тогда «низкое» становится высоким, поэтичным, духовно просветленным.
А Максим Богданович еще и самой формой стихотворения, поэмы, заботливо культурной и в то же время живой, новой (потому что сама попытка на белорусском, на «мужичьем» языке так «культурно» писать новаторство), подчеркивает духовную глубину, содержательность, богатство того жизненного материала, с которым он имел дело.
Максим Горецкий тоже по-своему выявляет, раскрывает духовную содержательность жизни белорусского крестьянина. И в разных произведениях по-разному. Однако делает это настойчиво — всю свою творческую жизнь.
Странно, неожиданно и интересно, что ранний Горецкий ищет и показывает духовную глубину жизни крестьянина в том, что, кажется, противостоит духовности — в предрассудках, в темных преданиях деревенской жизни и т.д. «Потайное», «таинственное» — чрезвычайно притягательное для молодого Горецкого слово и понятие, когда он пишет о деревне, крестьянине.
Уже Богушевич показал белорусской литературе этот, такой путь: не обходить вниманием всю реальную и жестокую правду жизни ограбленного панами и историей белорусского крестьянина, уметь в «бедности» увидеть «богатство» — духовное, нравственное.