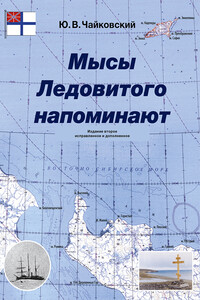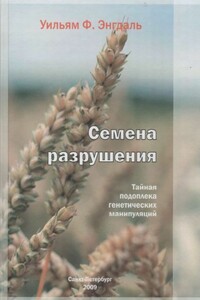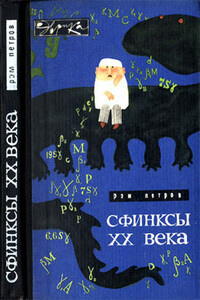Эволюция как идея | страница 76
Об унаследовании идеи, а не ее материальной реализации, еще до Любищева писал Д. Н. Соболев, и его не слушали. Отказ материалистов включить это в сферу научных исследований пресек им продвижение в области понимания наследования новых свойств. Сейчас материалисты начали признавать таковое, скромно забыв, что сто лет отрицали его — не потому, что оно не наблюдалось, а потому, что именовалось идеализмом. Не зря говаривал Любищев (пусть и утрируя), что результаты получают идеалисты, а материалисты лишь ставят на них «материалистическую печать». Пример: самоорганизацию сто лет, пока одни именовали ее направленностью, витализмом, энтелехией и пр., другие ее травили «с материалистических позиций». Но С. Кауфман (см. гл. 3) объединил всё гонимое термином «самоорганизация», взятым из теории систем, и всё это вдруг оказалось кстати как триумф материализма. Об этом см. главу 5.
Здесь надо пояснить, что называл идеализмом Любищев. Если материализмов в нужном нам смысле всего два — механический (физикохимический редукционизм) и диалектический (умение найти доводы для получения заданного вывода из заданных посылок), то идеализмов высказано премного. К счастью, позиция Любищева достаточно проста: он был платоник без новых изысков. Отнеся (в письме П. Г. Светлову, 1969 г.) себя как философа к компании Альберта Эйнштейна, он заключил:
«вся эта компания имеет то общее, что все они — рационалисты, как и Кант: религия в пределах чистого разума; а глубоко религиозные люди, как наш покойный друг В. Н. Беклемишев и ты, интуитивисты. Вот этого у меня нет, и потому я совершенно бессилен в размышлениях на темы религии в духе, например, Флоренского „Столп и утверждение истины“ […]. Начал читать, ничего не понимаю» [Любищев, 2000а, с. 316].
Не понимаю и я, зато (поэтому?) довольно легко понимаю Любищева. Соглашусь с Ю. А. Шрейдером:
«Любищев первый обратил внимание на то, что материалистический образ мышления неоправданно сужает философское понятие причинности, редуцируя его исключительно к действующей причине» [Любищев, 2000, с. 10].
Любищев напомнил о формальной причине явлений (о ней см. LR, т. 11, с. 48, 50, 92). Напомню тоже: Аристотель ввел 4 типа причин — материальную, формальную, действующую и целевую, и Артур Шопенгауэр полагал (в своих понятиях) причинное описание явления достаточным, если указаны все 4 причины этого явления. Они, добавлю, вместе с уподобляющей причиной схоласта Франсиско Суареса, довольно хорошо соответствуют пяти познавательным моделям (4–90, с. 14)