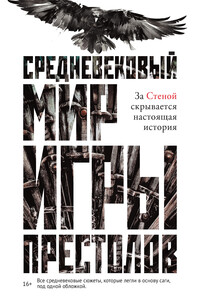Юрий Поляков: контекст, подтекст, интертекст и другие приключения текста. Ученые (И НЕ ОЧЕНЬ) записки одного семинара | страница 91
Сам писатель неоднократно утверждал принадлежность своего творчества к реалистическому направлению, открещиваясь от всевозможных влияний постмодернизма. К примеру, идея конца истории, присущая постмодернистскому мировоззрению, становится объектом сатиры в «Козлёнке в молоке». В романе «Любовь в эпоху перемен» один из персонажей выражает мысль, что искусство ушло в «глумливую инвентаризацию» прошлого вместо поиска культурных смыслов. Идея вторичности культуры и конца истории глубоко чужды писателю. Однако некоторые тенденции постмодернизма все же нашли свое отражение в творчестве автора.
А. Большакова также отмечает трансформацию реалистического метода в творчестве писателя: «<…> он, показываясь читателю в любых ракурсах – от неомодернизма до постмодернизма (и даже на грани китча), – остается по преимуществу реалистом, хотя и не в традиционном смысле слова. Впрочем, отход от традиции при одновременном следовании ей и составляет парадокс новейшей русской прозы на гребне межстолетья: ее дерзкую попытку сказать свое незаемное слово – не играя со «старыми» формами в духе постмодернистской усталости (…от всего), но преломляя высокий канон о новую реальность, безмерно раздвигающую свои границы и наши представления о ней»[13].
При анализе творчества Ю. Полякова обнаруживаются такие черты современной прозы, как маски автора-повествователя, языковая игра, карнавальный смех, эротизм и авантюрность сюжета, пародия и стилизация. Данные черты творчества автора, с одной стороны, выявляют его ориентацию на традиции (можно отметить влияние М. Булгакова, Н. Гоголя, М. Салтыкова-Щедрина). С другой стороны, можно заметить точки соприкосновения с постмодернистской и модернистской поэтикой.
В романе «Любовь в эпоху перемен» воплощён синтез художественных тенденций современной литературы. Повествовательная ткань романа пронизана иронией и обличительным сарказмом. Несмотря на превалирующую роль автора-повествователя, по своей структуре роман представляет собой полифонию, которая ярко выразилась в смеховом начале произведения. Точка зрения автора-повествователя плавно сменяется взглядом главного героя Гены Скорятина – отнюдь не идеализированного, одинаково успешного и неудачливого в различных областях своей жизни, являющегося своего рода пластилином в руках писателя-реалиста, отражающего все колебания маятника времени. Однако нередко в романе значимым голосом становится персонаж, выражающий точку зрения некого усреднённого, массового человека, что заостряет сатирический смех в романе: «<…> у мужчины баб может быть навалом, сколько осилишь, а жена – одна-единственная. Человечество совершило два великих открытия: моногамный брак и гарем. Увы и ах, наша цивилизация не оценила удивительного изобретения чувственного, но мудрого Востока и теперь расплачивается кризисом семьи» [Поляков; 479]. Автор нередко прибегает к стилизации. Исследователь Л. Захидова отмечает: «Языковая маска – некий лингвистический знак персонажа, который, с одной стороны, индивидуализирует персонаж, делая его узнаваемым, с другой – приближает речь персонажа к разговору реальных личностей, создавая у читателя иллюзию сопричастности к происходящему: такую речь читатель как воспринимающий субъект мог слышать за соседним столиком в кафе, в вагоне метро, в такси, на концерте и т. д.»