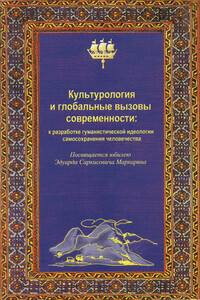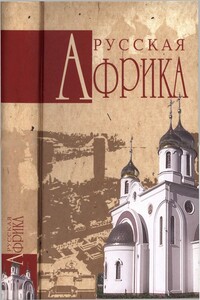Горизонты исторической нарратологии | страница 44
Если Б.А. Успенский включал в понятие точки зрения не только визуальные, но и «голосовые» факторы: языковые (фразеологическая точка зрения) и оценочные (идеологическая точка зрения), то Рикёр настаивал на «невозможности элиминировать понятие повествовательного голоса», которое «не может заменить собой категория точки зрения»[85]. Последнее мнение представляется более убедительным, поскольку рецептивная установка внутреннего зрения, направленного на объектную сторону высказывания, и рецептивная установка внутреннего слуха, направленного на субъектную сторону высказывания, в принципе неотождествимы, хотя и составляют грани единого коммуникативного события.
Нарратологическая категория «голоса» также подвержена закономерностям исторического эволюционирования.
В частности, архаичные нарративы (особенно стихотворные) были одноголосыми, строго выдержанными в едином стилевом ключе. Романная же наррация Нового времени принесла с собой «разноречие». Этот бахтинский неологизм был переведен Г. Морсоном и К. Эмерсон[86] на английский язык как «гетероглоссия» и прочно вошел в тезаурус современной нарратологии[87]. Данное понятие характеризует действительную реальность вербальной коммуникации, которая состоит в том, что «на территории почти каждого высказывания происходит напряженное взаимодействие и борьба своего и чужого слова» (ВЛЭ, 166).
Организация гетероглоссии текста как некоторого соотношения голосов вполне уместно может именоваться глоссализацией (от аристотелевского термина «глосса» – характерное словечко). В качестве события рассказывания нарративный дискурс представляет собой взаимодополнительность двух систем: не только конфигурации точек зрения (кто видит?), но и конфигурации голосов (кто говорит?). Последняя формируется стилистической маркированностью участков текста, ориентированной на имплицитного слушателя данной дискурсии. Если фокализация обращена к ментальному зрению читателя, то глоссализация – к его ментальному слуху.
В соответствии с бахтинским пониманием речевой деятельности «социальный человек», будучи «человеком говорящим», имеет дело не с языком в качестве абстрактной регулятивной нормы, а со множеством речевых практик, составляющих динамичную вербальную культуру данного общества: «Исторически реален язык как разноречивое становление, кишащее будущими и бывшими языками, отмирающими чопорными языковыми аристократами, языковыми парвеню, бесчисленными претендентами в языки, более или менее удачливыми, с большей или меньшей широтою социального охвата, с той или иной идеологической сферой применения» (ВЛЭ, 168–169). Речь повествователя неизбежно принадлежит к этой реальности, в результате чего в нарративных текстах, с одной стороны, возникает дистанция между двумя или несколькими «социально-языковыми кругозорами» (ВЛЭ, 168), а с другой – нередко имеет место «интерференция текста нарратора и текста персонажа»