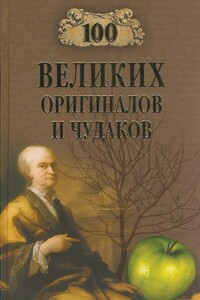Прорыв на Харбин | страница 54
Этим замыслом, в частности, и объясняется тот факт, что в полосе 1-й Краснознаменной армии противник сосредоточил главные свои силы довольно далеко от границы, в 40–50 км от нее, в междуречье Мулинхэ и Муданьцзяна. Здесь, по данным нашей разведки, дислоцировались до четырех пехотных дивизий, танковая дивизия, тяжелая артиллерия и несколько кавалерийских бригад, общей численностью свыше 65 тыс. человек. А на первом (Мишаньский УР) и втором (район Мулина) рубежах обороны были оставлены 135-я пехотная дивизия, три погранотряда и другие части, численностью 25–26 тыс. человек[24]. Таким образом, на первом этапе наступления 1-я Краснознаменная армия (69 тыс. человек) имела почти трехкратное превосходство в пехоте, абсолютное в танках и артиллерии.
Японские генералы надеялись, что, пока наши части будут пробиваться через долговременную оборону Мишаньского УРа, они понесут большие потери и контрудар из междуречья Мулинхэ — Муданьцзян японцы нанесут при благоприятном для них соотношении сил. Так, по крайней мере, объяснило мне свои замыслы командование 5-й японской армии после того, как попало к нам в плен.
Что ж, с точки зрения чисто теоретической, я бы даже сказал — книжной, план был правильным. Однако он не учитывал огромный опыт, накопленный советскими войсками в наступательных операциях, с одной стороны, и отсутствие такого опыта у японской армии, с другой. Предвижу законный вопрос читателя: как так? Японская армия, воюя почти непрерывно с начала 30-х годов, захватив огромные территории Китая, Индокитая, стран Южных морей, не приобрела опыта проведения широких наступательных операций? Приобрела, но не тот, который можно было в те годы назвать современным, имея в виду широкий и глубокий маневр танковых корпусов и армий, моторизацию пехоты, массированно артиллерии (корпуса прорыва), ее подвижность (противотанковые бригады) и так далее. Собственно, и противники-то у японской армии на больших сухопутных фронтах были не из тех, что заставили бы, как говорится, хоть не мытьем, так катаньем серьезно пересмотреть и организационную структуру своих войск, и методы управления ими. Пехотные дивизии вплоть до сорок пятого года были громоздкими и неповоротливыми, насчитывали по 25–30 тысяч личного состава (то есть примерно наш корпус из трех стрелковых дивизий). Артиллерия и в техническом отношении, и в боевой подготовке, в том числе противотанковой, отставала от требований дня. То же и с танками. Стремясь ликвидировать эти недостатки, японский генералитет начал спешно проводить различные организационные меры, в том числе «делить» дивизии надвое, чтобы сделать их более подвижными и управляемыми. Традиционный в японской армии упор на одиночную подготовку солдата давал практические результаты, однако они смазывались отсутствием инициативности у солдат. Приученный обожествлять всех, кто стоит выше его, начиная с императора и вплоть до унтер-офицера, рядовой солдат был послушен и очень исполнителен, но в бою брать на себя ответственность за смелое решение не умел и не хотел. Грешил этим же недостатком младший и средний командный состав.