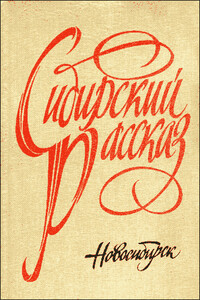Пульс памяти | страница 48
«…Я, сын, довольно окреп, встал на ноги. Можно вроде б и за винтовку…»
«Можно вроде б…»
А сам-то решил твердо. И следующее письмо свое написал уже из военкомата.
«…Хоть и долго вертели в руках мои бумаги, а врач все барабанил пальцами по какому-то месту в листке, да все ж, спасибо, уважили, согласились.
…Оно и сам подумай: коли я сызнова мог за плугом ступать да косить, опять же, — так отчего ж тогда с прикладом, к примеру, не совладать мне?
…Зачислен, значит, я уже в команду, и, говорят, через час-другой отправление. Так что напишу теперь с дороги. А станется, путь коротким выйдет, тогда с места прибытия черкану…»
Путь вышел, видно, очень коротким, уже через две недели отцово письмо пришло ко мне из действующей армии.
С фронта.
Последние мысли, последние слова:
«…Житье солдатское, окопное, без подробностей известное. Так что распространяться не стану. Бьем германца, да день по дню — крепче. Дай-то бог и дальше так. А оно, подобно, и должно быть не иначей. И верится тут нам всем, что так и будет. Сменялись мы вроде б с немчурой везением. Теперь у нашей доли глаза-то с ясностью, а у ихней — бельмы да синяки одни…
А у тебя, сын, нет ли чего нового? Весточек никаких?..»
Мне показалось, что слова эти были не карандашом написаны на бумаге, а чем-то кремнево-крепким выбиты на моей памяти.
Как на бронзе…
Теперь вот рядом со строчками письма — строчки «похоронной».
Свинцово отливаются и застывают перед глазами буквы, слова…
Читаешь — и как бы опустошаешь самого себя, в каждой из этих букв и строчек — жестокая, убивающая сила, какой ты еще не знал.
Мать отошла к окну, закусила дрожащие губы. Она уже выплакалась по мужу, а теперь…
Как сдержать эти слезы?
Слезы, разделяющие сыновью беду?
Такова, видно, испокон судьбина матери: выплакивать свое, а потом и дитячье, как она говорила, горе. Все несладкое — пополам.
Какие ни случаются житейские смерчи и бури, они первым делом — на ее ветви, в ее паруса.
А тут такой град!
Незнамо, неведомо, кого ударило вчера, кого в сию вот минуту, а чья очередь завтра…
Великой радостью (такой великой, что нет еще тому назначенного слова) было освобождение от оккупации. Восемьсот суток тревоги и тревоги. Тысяча шестьсот кошмарных ночей… Да, тысяча шестьсот ночей, потому что день в оккупационную пору ничем не был лучше ночи…
Наконец загромыхали дали.
Долгожданно, яростно, по-праздничному.
Был это орудийный гул или ветры приносили торжественную музыку?..
Шел свет.
Шел гнев.