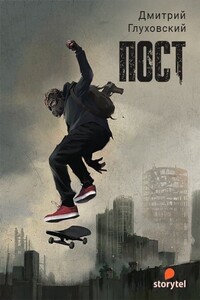Пост 2. Спастись и сохранить | страница 125
Остался бы от него кусочек, остался бы от него ей ребенок, который бы вырос похожим на него, сероглазым и русоволосым; а так только это вот остается последнее — картинка у нее в памяти, и ту хочется забыть поскорей.
Потом она понимает, что Юра пытается расслышать, что там эти несут, за стеклом, в зале ожидания. Что если он и не стал еще одним из них, то вот-вот станет. Надо его увести, увести скорей — потому что иначе его придется застрелить. Она умоляет его уйти, но он все, он уже влип, мясная юла его заворожила, загипнотизировала, он уже хочет тоже туда, к своим товарищам. Стучится к ним, просится, чтобы они его к себе взяли…
Мишель плачет и снимает лисицынский пистолет с предохранителя.
И тут он просыпается — слава богу, что просыпается.
С икон уже, с лежащей на диване бабки, со старческого кислого запаха от порога Мишель чувствует ком в горле. Старик — высокий, сутулый, почти целиком облысевший — не похож на ее деда, а старуха — на ее бабушку: не больше, чем все старики друг на друга похожи. Но сейчас ей и этого сходства довольно.
Здешняя старушка умеет ходить. Хлопочет, ставит чайник, накрывает на стол — у Мишель ее собственная бабка такой была лет десять назад, когда сама Мишель еще только превращалась из девочки в девушку. Этот их дом вообще — с теплым желтым светом, с иконами и мурлычущей кошкой, которая трется о ножки стола, — кажется сном; или сон все то, что случилось с ней за последние три дня?
Потом бабка ведет ее в задние комнаты переодеваться — видит, что на Мишель все джинсы замызганы, видит засохшую кровь, но при мужчинах виду не подает. Потрошит платяной шкаф, достает из него какую-то молью битую шерсть, но находит и чистые футболки, и колготки, и свитер.
— Вам нельзя тут оставаться… — бормочет Мишель, раздеваясь.
Отчего-то она при чужой старухе раздеться не стесняется. Что бабка говорит, ей понятно и без слов: что стряслось? Это он тебя так? Мишель хочет защитить Юру от подозрений.
— Это не он. Он хороший. Он в меня в Москву отведет, к семье. Меня другой изнасиловал. Я беременная была. Потеряла… Я потеряла…
Бабка обнимает ее, целует в голову. Заговаривает неслышно боль. Приносит ей горячую воду, тряпку, и пока Мишель теплой тряпицей стирает с колен и с бедер кровь, бабка кивает ей, кивает и что-то шепчет, глядя в угол; Мишель оглядывается — там тоже икона.
Бабка показывает ей — и ты бы помолилась, авось полегчало бы; так, по крайней мере, можно догадаться — все старухи этот разговор заводят, и ее родная бабушка заводила с Мишелью его сто раз. Но там, в Ярославле, на Посту, Мишель сказала бы ей коротко и ясно: отвали,