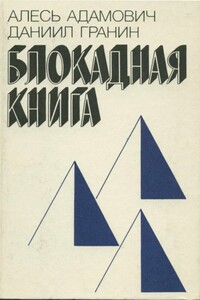Василь Быков | страница 16
Вся повесть и состоит из "биографий" каждого из персонажей, заключенных в общую рамку войны, близкого боя, ожидания неминуемой гибели. Но это такая "рамка", которая придает значительность всему, что когда-то было с человеком и что есть, большого или ничтожного, в человеке: подступает момент страшного испытания боем, смертью всего и всех.
И это совершилось. Один за одним погибают: и хлипкий интеллигент Фишер, сам удивившийся, что он сумел сбить выстрелом первого мотоциклиста, и недавно еще презиравший его крепыш и "уставник" Карпенко, и беззаботный блатняга Свист. Убиты и те, кто пытался обхитрить и товарищей и самое смерть: Овсеев, Пшеничный.
В окопе остается самый молодой, но за одни сутки страшно постаревший Глечик... Да еще — незримо — читатель, который, благодаря правдивому таланту В. Быкова, тоже пережил весь бой и все потери, одну за одной, ощутил беспощадность и тоску смерти. Но читатель может уйти — в свое, в мирное время, к своим делам, заботам и радостям. Оставив на том одиноком переезде с торчащим в небо шлагбаумом бойца, почти мальчика. Оставив его умирать вместо себя, за себя. Потому что время необратимо. Но что он не может (и не сможет), не должен, не имеет права — это забыть! Этих вот фронтовых мальчишек:
"Соскочив с бруствера, Глечик схватил единственную свою гранату, прижался спиной к подрагивающей стенке траншеи и ждал. Он понимал, что это конец, и изо всех сил зажал нестерпимую тоску, скорбь в душе, в которой беспредельной жаждой жизни бился далекий призывный журавлиный крик..."
Год спустя (в 1960-м) написана была В. Быковым вторая его повесть — "Измена" ("Фронтовая страница"), которую он, по его словам, "почти всю придумал как по сюжету, так и по характерам". На основе, конечно, своего немалого фронтового, жизненного, реальною оныта "придумал". И снова перед нами — вся тяжелая реальность войны, фронта, боя, но не самого первого, как в "Журавлином крике", а спустя бесконечные три года, когда у войны уже выработался свой быт, по-своему устойчивая повседневность, когда проясняются, реализуются не только прежде сложившиеся представления, характеры, но и те черты в людях, которые выработались или, во всяком случае, огранились уже самой войной. (Еще полнее проявится это в следующей вещи — в "Третьей ракете".) В. Быкова упрекают иногда, что, повествуя о 1944 годе, когда война уже шла к концу, а дело — к победе, он, дескать, не передает отличающуюся от 1941 года атмосферу конца войны. А ведь передает, и притом самым глубоким, самым свойственным серьезной литературе образом — через человеческие характеры, типы. Достаточно сравнить крепкого старшину Карпенко из "Журавлиного крика", в котором все — от долгой службы в казармах, от устава да от упрямого характера, с Иваном Щербаком ("Измена") или с комроты Ананьевым ("Атака с ходу"), которых "сделали" военные испытания — ожесточили, но и научили понимать цену человеческих слов, дел, солдатского братства и многого другого,— чтобы убедиться в неосновательности таких претензий к писателю. Трудно, нечеловечески тяжело героям В. Быкова и в 1944 году. А кто сказал, что в 1944-м или в 1945-м умирать солдату было легче? Ведь известно, что смерть обиднее всего, несправедливее всего представлялась как раз в день Победы...