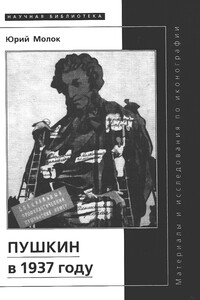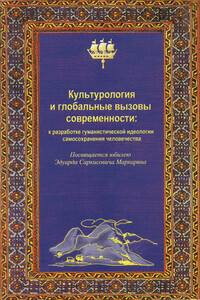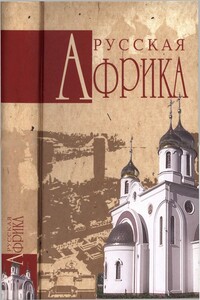Историческая память в социальных медиа | страница 29
Общественное сознание легко перенасыщается конфликтными и противоречивыми образами Прошлого, каждый из которых может использоваться в качестве ресурса мемориальных войн как особого вида идеологических противостояний. Нередко образы Прошлого и исторические знания вступают в конфликты, связанные как с ненадежностью индивидуальной памяти, так и со спецификой научного исторического познания, далеко не всегда способного реконструировать и объяснять исторические процессы без пробелов. Однако научные знания об истории отличаются высокой надежностью, они создают прочную основу для консолидации частных мировоззрений там, где индивидуальная память разобщает людей. Поэтому государства в той или иной степени и сегодня продолжают обращаться к профессиональным историкам с известным «заказом» на производство исторической картины социальной жизни.
Историческая память все чаще рассматривается не только как научный термин, но и как социально-политический концепт, позволяющий адекватно представить процессы становления коллективных идентичностей на основе общих воспоминаний, формируемых под влиянием государственной политики. Эта тенденция вполне соответствовала западным исследовательским стратегиям, которые рассматривали историческую память в формате государственной политики [Boyd; Winter]. В то же время, в западном сегменте исторической и политической науки для описания набора практик, с помощью которых находящиеся у власти политические силы стремятся утвердить определенные интерпретации исторических событий как доминирующие, традиционно используется понятие историческая политика [Heisler]. В современных исследованиях историческая политика все теснее связывается с интерпретацией прошлого для решения насущных практических задач и приобретает все большее значение для характеристики феномена использования истории для достижения политических целей и культурной гегемонии в социальном пространстве. В связи с этим, видится вполне оправданным употребление (характерное для западной науки) наряду с термином «историческая политика» понятий «политическое использование истории», «режим памяти» [Onken], «культуры памяти», «игры памяти» [Mink] и др., подчеркивающих манипулятивную сущность феномена.
Использование событий прошлого и памятных мест для политических целей создает проблему «инструментализации» памяти, которая рассматривается в рамках теории политики памяти. Для описания противоречивого процесса формирования и продвижения исторических представлений был выдвинут концепт «политика памяти». Например, О.В. Головашина понимает под ней «использование образов прошлого в качестве ресурса для реализации амбиций социально-политических субъектов» [Головашина, с. 19], а А.А. Линченко и Д.А. Аникин определяют ее «как целенаправленную деятельность по репрезентации определенного образа прошлого, востребованного в современном политическом контексте, посредством различных вербальных и визуальных средств» [Линченко, Аникин, с. 19]. Также под политикой памяти предлагается понимать «целенаправленную деятельность по репрезентации определенного образа прошлого, востребованного в политическом контексте, посредством различных вербальных (речи политиков, учебники истории) и визуальных (памятники, государственная символика) практик» [Сыров и др.]. А.И. Миллер определяет политику памяти как частный случай исторической политики, предполагающий активное участие властных структур, конфронтационность и преследование партийных интересов [Миллер, 2013]. Инфраструктура политики памяти включает в себя политические институции, научные и образовательные учреждения, медиасферу, музеи и политизированную топонимику. Д.И. Гигаури считает воплощением политики памяти коммеморативные практики, задающие линию интерпретации совместного прошлого через символическое переоформление реальности, закрепляющее в сознании людей образ общего прошлого – «создание мест памяти, культурных городских ландшафтов, установку и снос памятников, организацию культурных мероприятий и фестивалей, новых музеев, создание школьных учебников и кинофильмов на историческую тематику и т. д.» [Гигаури,с. 62].