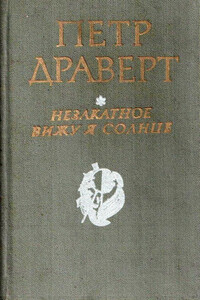Проба на излом | страница 44
Додумать и досмеяться не успеваю. Дверь распахивается, запах свежей крови волной врывается в избушку.
Зверь идет.
Скрипят половицы.
Могучее дыхание.
Ощущение чего-то огромного, заполнившего избу.
Хочу зажмуриться, но приказываю смотреть. Этот страх должно выпить до дна и с широко открытыми глазами.
– Как тебя зовут? – спрашиваю потом, сдерживая слезы. Боль стихала. Почему-то кажется, что он скажет «Пятница». А кто еще может жить с Робинзоном на необитаемом таежном острове?
Но он ответил:
– Медведь.
Обыкновенное чудо.
Робинзон
Медведь плохо помнил, где они жили до того, как поселились в тайге. Робинзон рассказывал, но это казалось юному Медведю страшной сказкой о каких-то городах, где избы стоят друг на друге, земля покрыта мертвой коркой, а ягод и грибов нигде нет и приходится делать непонятные вещи, чтобы набить брюхо. Тогда он еще не питался мясцом, а обожал малинники, в изобилии раскиданные по лесу. Потом Робинзон рассказывать перестал, и вообще стал очень мало говорить с Медведем. Зато продолжал ходить за ним по пятам, словно не понимая, что тот его все равно чует, как бы он не прятался. Да и не умел он прятаться. И ходить бесшумно не умел. И охотился из рук вон плохо. И в грибах не разбирался, принося в избу такую отраву, что если б не Медведь, то помер бы. И ягоды собирать ленился. А в первую зимовку простудился так, что Медведю пришлось самому разводить огонь в очажке и кипятить чай с малиной, отчаянно чихая от дыма.
Робинзон все толковал об эксперименте. И даже что-то писал на бумаге, пока однажды бумагу не пришлось пусть на розжиг в одну дождливую осень. Если тайга крепила Медведя, делала сильнее, ловчее, злее, то Робинзон линял, точно больная лисица. Линял зимой, линял летом, линял весной и осенью, превращаясь в малозаметное выцветшее существо. Однажды он попытался дойти до города, ему понадобилось с кем-то встретиться. Он строго-настрого запретил Медведю следовать за ним, но тот, конечно же, пошел и правильно сделал. Робинзон долго кружил вокруг избушки, потеряв направление, часто останавливался, дышал со страшным скрипом, бормотал, плевался, махал руками, а когда Медведь вышел из чащобы, то он не удивился и принялся рассказывать как сходил в город, и что его до сих пор помнят и ценят.
Его воспоминания напоминали лес – запутанный, заваленный буреломом, с проплешинами ягодных полян и мрачными озерами, без дна и цвета, что таились в чащобе, куда не доносилось ни ветерка, не проникало солнце. Они изливались густо, страстно, слишком быстро, порциями, как у зверя, что стремится быстрее исполнить долг перед зовом природы и передать в вечность свой наследственный материал. Нисколько не заботясь о последствиях, потому как зверь живет только настоящим. И если с мохнатой самкой он бы ограничился зовом природы, то с безволосой, что лежала рядом, он ощущал потребность в чем-то еще, быть может человеческом. Такого он еще не испытывал. Все оказалось по-другому. О людях он никогда не думал как о том, к чему и сам принадлежит, ни с восторгом, ни с презрением или, тем более, со злобой. Они существовали вне его мира, а когда ненароком сюда забредали, он делал все, чтобы это исправить.