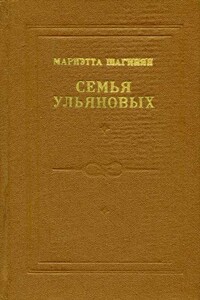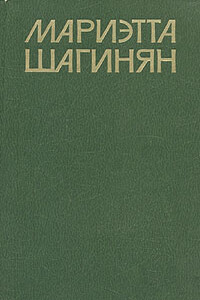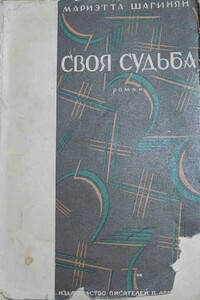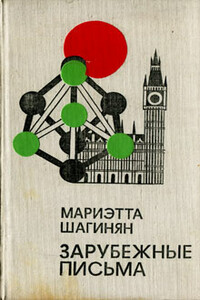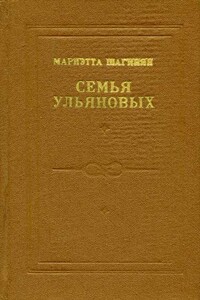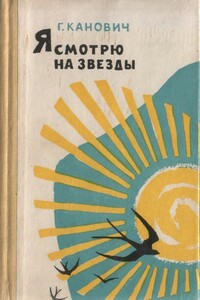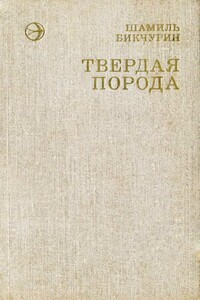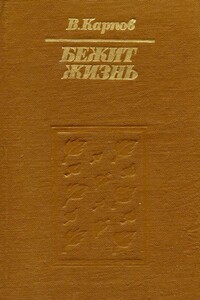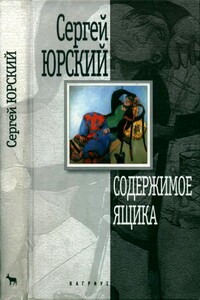Первая всероссийская | страница 61
Но, ругая распущенность полиции, военные власти тоже не были свободны от «жучка». Их собственный жучок, подтачивавший русский военный авторитет, состоял в постоянной грызне двух течений генералитета, русского и немецкого. И надо же было проявиться ему опять-таки во дни юбилея Петра! Да еще под самым носом у царской столицы…
Сестрорецкий оружейный завод, основанный Петром, уж во всяком случае, как один из первых в империи, мог во весь рост подняться на юбилее, чтобы произнести свой тост.
Арендовавший завод у государства, генерал-майор Лилиенфельдт хотел провозгласить этот тост не хуже, чем у другого начальства. Он на собственный счет (а немцы, как известно, не любят разбрасывать деньги почем зря) нанял музыкантов, купил восемь бочек пива и объявил своим рабочим, что устраивает для них гулянье в Дубовой роще, посаженной когда-то Петром, — гулянье широкое, с немецким пивом, с женами, невестами, детьми и под музыку. Но заведующий хозяйственной частью в селе Сестрорецке, полковник Ладыгин, расставил всюду своих часовых с приказом: никого в Дубовую рощу не пускать, чтоб не помяли травы. Разъярился генерал-майор Лилиенфельдт на полковника Ладыгина! И приказал: музыкантов отпустить, а все восемь бочек пива вылить в Разлив. И тоста не состоялось. Рабочие-оружейники ответили на вопрос гражданской власти «как праздновали» сухим «да никак, ваше благородие, кружки были пустые». А Ладыгин, потирая руки, отпускал в адрес генерала патриотические русские выраженья: «Ступай сам бир трикен, немецкая колбаса, тут тебе не фатерланд!».
Справедливость требует, однако, заметить, что благородный национальный порыв русского военного сердца был объяснен сестрорецкими жителями несколько более прозаически: траву-мураву в Дубовой роще берегли не ради местной живописности и охраны природы, а на сено собственным полковничьим лошадям, — для чего из года в год косили ее в порядке добровольной повинности назначенные из хозяйственной части полковника Ладыгина безответные русские солдатики-новобранцы.
Город Симбирск жил собственными противоречиями, о которых симбирцы узнавали частью из опыта, частью из местной газеты. «Симбирские губернские ведомости», кроме объявлений, имели два отдела — официальный и неофициальный. В первом перепечатывались телеграммы и всякого рода новости из «Правительственного вестника»; во втором рассказывалось о событиях местных. Выставке, еще за полгода до ее открытия, были посвящены многие номера, и симбирцы знали подчас о том, что не всегда становилось известно и москвичам: точные суммы пожертвований, от кого и когда; точные указания квадратных саженей, где и на что отведенных; прибытие разного рода экспонатов, от кого и на какую сумму. Хотя не все в этом потоке информации могло заинтересовать Илью Николаевича и пригодиться ему, он аккуратно вырезывал сообщения о Выставке и складывал их в большой конверт, где уже находилась старая карта Кремля и расходившихся вокруг него московских улиц. В том же конверте лежало полученное им из округа официальное уведомление: