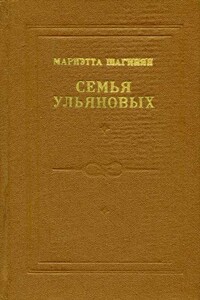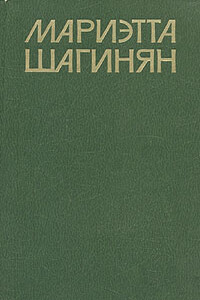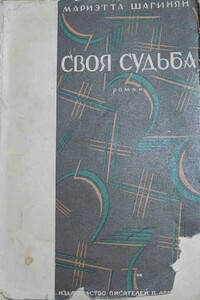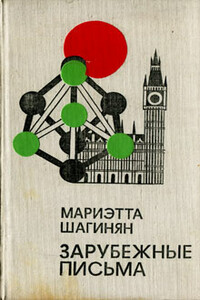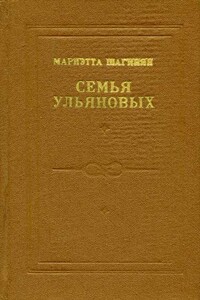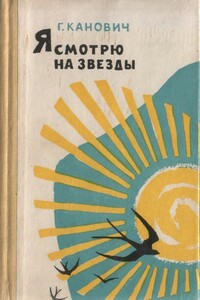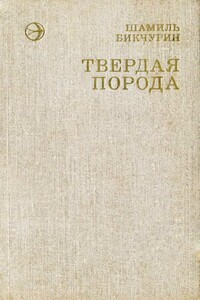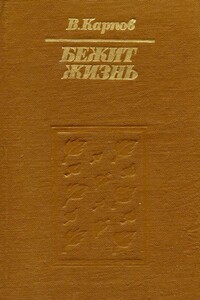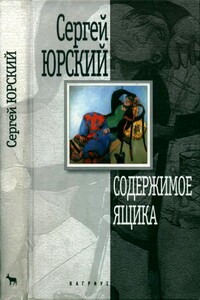Первая всероссийская | страница 60
«Случилось нам быть в Измайлове, на Льняном дворе, и гуляя по амбарам, где лежали остатки вещей дому деда, Никиты Ивановича Романова, между которыми увидел я судно иностранное, спросил Франца,[7] что то за судно? Он сказал, что то бот английский. Я спросил: где его употребляют? Он сказал, что при кораблях для езды и возки. Я паки спросил: какое преимущество имеет перед нашими судами (понеже видел его образом и крепостию лучше наших)? Он мне и сказал, что ходит на парусах не только что по ветру, но и против ветру; которое слово меня в великое удивление привело и якобы неимоверно».
Царь Александр Второй остался очень доволен торжествами, длившимися в Петербурге, Кронштадте и Красном Селе почти неделю. Сопровождавший его военный министр Дмитрий Алексеевич Милютин записал в своем дневнике: «В ряду обычных у нас и слишком частых официальных церемоний, большею частию лишенных всякого внутреннего содержания, торжество 30 мая 1872 года составляло блестящее исключение. Все было внушительно и по своему историческому смыслу, и по своей внешней обстановке. Воспоминание о великом Царе-Преобразователе как будто расшевелило всю Россию и возбудило на время, — правда, весьма короткое, — патриотический энтузиазм. В некоторых местностях, преимущественно связанных с замечательною деятельностью великого Государя, торжеству была придана особенно эффектная обстановка».
Иностранцу, если б он вздумал в эти дни прокатиться с бедекером в руках по русским городам, могло и в самом деле показаться, что в России, как в сказке, лесом мечей встал и засверкал патриотический энтузиазм народа. Более внимательный соотечественник наш, если б он смог заглянуть в дневник министра Милютина, призадумался бы над тремя его словами о сроке длительности народного патриотизма: «правда, весьма коротком». А историк из числа прямолинейных прямо сказал бы, что Россия разорвана была в те дни на два лагеря, стоявших друг против друга, правый лагерь — государство с царем и присными, министрами и войсками, помещиками, попами и купцами; и левый лагерь — народные мстители, для которых пробьет свой час. Ведь даже образованный царский министр, много лет разделявший петербургскую придворную жизнь, граф Валуев писал о мстителях и об их наступающем часе в своих дневниках.
Но в этой прямолинейной картине имелись тысячи нюансов. Правда, чтоб увидеть эти нюансы, историкам нужно было бы поднять тяжелую крышку над летописями нового века, — жандармскими донесениями со штампом «секретно», что было им пока недоступно, или же прислушаться к дамским пересудам о делах своих мужей, ведущимся большей частью на балах пожилым составом прекрасного пола из разряда не танцующих, — что историки почли бы ниже своего достоинства. Нюансы имелись во множестве и в левом, и в монолитном, казалось бы, правом лагере. Как жучки в дереве старых домов, подтачивая и подтачивая самые крепкие на вид стены, в этом правом лагере, поддерживавшем российский трон, все со всеми пикировались и были в несогласии, каждый ликовал над поражением своего противника и любой вел подкоп под другого любого, и даже выражение: «Иван Иваныч подкапывается под меня», «подкоп», «подкопались», — в Англии применяемое обычно в воровских романах об ограблении банка, — родилось именно среди нюансов этого лагеря. Санкт-Петербург «ставил на вид» Москве; московская полиция обижалась на петербургскую; двор делился на неисчислимые партии. Министр народного просвещения вел подкоп под военного министра, и чиновники графа Дмитрия Андреевича Толстого грызлись с чиновниками Дмитрия Алексеевича Милютина. Гражданская власть в лице губернаторов считала себя первой в губернии и пикировалась с военной властью, не желая от нее видеть в губернии никаких самостоятельных действий. Охранная власть в лице III Отделения и начальников полиции поддерживала губернаторскую привилегию против военщины. Военщина протестовала и часто вмешивалась самовольно, вызывая неудовольствие у Тимашева и графа Шувалова, двух столпов охраны.