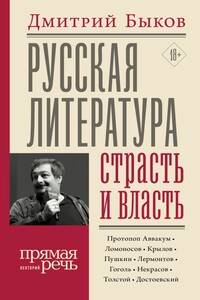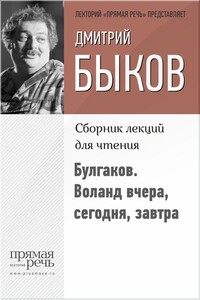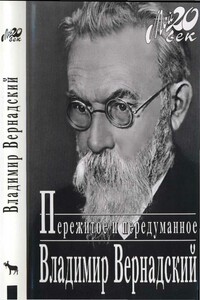Иностранная литература: тайны и демоны | страница 52
Вот в жанре пиццы, бедняцкой пиццы, написана «Битва жизни». Может быть, потому, что в 1847 году Диккенс путешествовал по Италии и, как справедливо замечает Честертон, не увидел там ничего, кроме примет Англии, которую он постоянно носил с собой.
Пятая же повесть – «Одержимый, или Сделка с призраком» – сделана так, что с нее началась готическая проза второй половины XIX столетия. Это был первый скачок после «Мельмота Скитальца» (1833) Чарльза Метьюрина.
На легенде о Вечном скитальце, о Вечном жиде, об Агасфере очень долго держалась вся мировая литература, вся мировая готика. Вечный Жид в романе Эжена Сю становится сюжетообразующим мотивом, как и Калиостро в романе Александра Дюма «Жозеф Бальзамо». Постоянный странник, скиталец, которому нет приюта, – это первый мотив готической литературы.
Диккенс придумал второй, и, что самое поразительное, – почти одновременно с ним эту штуку придумали еще два человека, очень близких ему по темпераменту: Достоевский придумал «Двойника» (1845–1846), а несколько раньше, в 1839 году, Эдгар По – «Вильяма Вильсона». В «Вильяме Вильсоне» двойник – положительный герой, а повествователь – отрицательный. У Достоевского Голядкин – робкий, неуклюжий человек, но у него есть победительный двойник, которому все достается. А вот у Диккенса эта история развернута совсем своеобразно.
Редлоу – ученый-химик и профессор, главный герой, одержимый своей наукой; ничем, кроме науки, он не интересуется, но какие-то воспоминания не дают ему покоя и делают угрюмой даже убранную к празднику комнату:
…ярко-зеленый остролист на стене съежился, поблек – и на пол осыпались увядшие, мертвые ветки.
Мрачные тени сгустились позади него, в том углу, где с самого начала было всего темнее. И постепенно они стали напоминать – или из них возникло благодаря какому-то сверхъестественному, нематериальному процессу, которого не мог бы уловить человеческий разум и чувства, – некое пугающее подобие его самого.
Безжизненное и холодное, свинцово-серого цвета руки и в лице ни кровинки – но те же черты, те же блестящие глаза и седина в волосах, и даже мрачный наряд – точная тень одежды Редлоу, – таким возникло оно, без движения и без звука обретя устрашающую видимость бытия. Как Редлоу оперся на подлокотник кресла и задумчиво глядел в огонь, так и Видение, низко наклонясь над ним, оперлось на спинку его кресла, и ужасное подобие живого лица было точно так же обращено к огню с тем же выражением задумчивости.