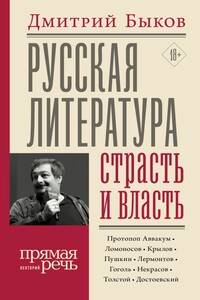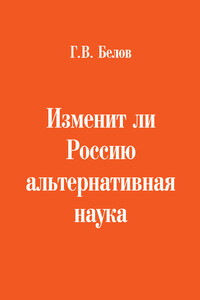Иностранная литература: тайны и демоны | страница 46
Они отправились восвояси. <…> …она – в слезах, он – угрюмо глядя в землю[23].
«В наилучшем расположении духа» олдермен дает Тоби отнести письмо, и Тоби под звуки колоколов «Упразднить! Упразднить!» отправляется в дом, где его ждет нечто совсем иное, гораздо более веселое. Там живет настоящий друг бедняков, который говорит следующее:
– Я делаю все, что в человеческих силах <…>. Я выполняю свой долг как Друг и Отец бедняков; и я пытаюсь образовать их ум, по всякому случаю внушая им единственное правило нравственности, какое нужно этому классу, а именно – чтобы они целиком полагались на меня. Не их дело заниматься… э-э… самими собой. Пусть даже они, по наущению злых и коварных людей, выказывают нетерпение и недовольство и повинны в непокорном поведении и черной неблагодарности, – а так оно несомненно и есть, – все равно я их Друг и Отец. Это определено свыше. Это в природе вещей.
На обратном пути Тоби слышит, как колокола вызванивают: «Друг и Отец! Друг и Отец!» – и сталкивается с Уиллом Ферном, которого олдермен собирается «упразднить».
Уилл Ферн, один из главных персонажей повести, виноват только в том, что осмеливается бродяжничать, хотя он просто ищет работу. В назидание его предлагают посадить в тюрьму, а в тюрьму он не может, потому что воспитывает дочь своего умершего брата, прелестную девятилетнюю девочку.
Не буду пересказывать сюжет, хотя сцена, когда этот трясущийся, несчастный Трухти несет на руках к себе домой девочку, отогревая ей ножки, относится к числу сильнейших у Диккенса. Но самая сильная в повести не сентиментальная часть. Самое прекрасное, что церковные колокола, духи церковных колоколов вызванивают не мирную проповедь, звонят не к веселью и не к радости – они взывают к гневу, они взывают к протесту. Диккенс, который пародирует, насмешничает, который выводит в повести этих запретителей, уничтожителей, упразднителей всего, благотворительных сострадальцев, впервые по-настоящему после «Приключений Оливера Твиста» (1837–1839) возглашает прямую проповедь непокорности, несмирения.
Мы, англичане, пишет Честертон, многое «взяли напрокат, особенно то, чем больше всего гордимся. Имперскую политику – из-за границы, и милитаризм, и просвещение, и даже либеральность. А вот радикализм у нас был свой, английский, как живая изгородь». Слово англичанина не расходится с делом. Он не может молча смотреть на чужое бедствие; он не будет, как русский человек, глядя на девочку со спичками, бесконечно размышлять о том, как это ужасно, как он себя при этом отвратительно чувствует. Англичанину свойствен пафос активного действия. Для Диккенса это не ниспровержение, не разрушение, не месть – это немедленное благое дело: накорми голодного, утешь обиженного, приведи домой замерзшего. И то, что этот пафос активного действия в «Колоколах» заявлен, делает эту вещь практически классикой. Я думаю, не зря Диккенс ценил ее выше всех, хотя коммерчески она была далеко не так успешна, как первая и третья.