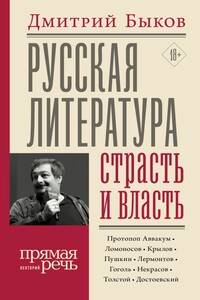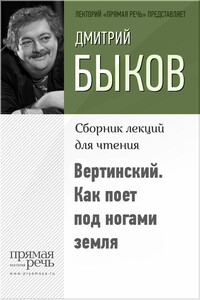Иностранная литература: тайны и демоны | страница 43
Но чудо – вещь жестокая, как сказано в стихотворении Бориса Пастернака «Чудо» о бесплодной смоковнице:
Чудо – это вещь, которая в категориях морали не интерпретируется. Вспомните слова героя романа Станислава Лема «Солярис»: «Какие свершения, насмешки, муки мне еще предстояли? Я ничего не знал, но по-прежнему верил, что еще не кончилось время жестоких чудес»[22]. Чудо по своему воздействию бывает страшно. Чудо с испепеленной смоковницей – это не то чудо, которого мы ждем от доброго Христа, от уютного Христа, от плюшевого христианства. Но христианство не бывает плюшевым. Христианство – это бросание себя в чужое жерло, бросание своей жизни как главного аргумента в лицо врагу, как перчатку, – вот это очень точно.
Время жестоких чудес – это и есть ощущение жестокого чуда в диккенсовской сказке. Душа Скруджа подвергается жестоким испытаниям – без этого возрождения не получится. Конечно, ко всему этому приделан бантик в виде счастливого конца, в виде волшебного диккенсовского многословия, но мы-то с вами понимаем причину этого: человеку нужны 270 фунтов.
Многословие Диккенса жутко утомляет, но у гения всё в плюс. За счет этого многословия возникает ощущение волшебной недостоверности. Мы начинаем всему верить, потому что все призрачно, все таинственно. Как сказал Честертон, «таинственность потрясает нас, тайна банальна. Внешность событий страшнее, чем их суть».
И вторая мысль Честертона. В повестях Диккенса, в «Рождественской песни» особенно, много дождя, снега, тумана и счастья не только потому, что туманно и холодно английское Рождество, а потому, что в тумане возможны чудеса. Туман опускается как завеса, в которой совершается чудо. Диккенс – поэт тумана: «Природа <…> варит себе пиво к празднику», туман – это гигантская пивоварня. И прав Честертон, когда говорит о Диккенсе: «Наверное, он мечтал о невозможном счастье – отыскать огромный чан и выпить великаньего пива».
Вот у Андерсена совершенно нет этой страсти к деталям. Гусь рождественский у него просто гусь, но рождественский гусь у Диккенса нафарширован луком и шалфеем, а сами луковицы «румяные, смуглолицые толстопузые испанские луковицы, гладкие и блестящие, словно лоснящиеся от жира щеки испанских монахов», и миндаль ослепительно бел, и цукаты рядом лежат, облитые глазурью… Через страницу таких упоительных приключений у читателя начинает такая слюна уже хлестать, что он как-то примиряется с миром, с образом жестокого чуда, так соприродного жестокой легенде Рождества. От этого и сама «Рождественская песнь», которая является синтезом прозы и стиха, которая строфична, ритмична, в которой есть прямые стиховые вставки и которая, в общем, довольно дурновкусное произведение, становится ужасно убедительной.