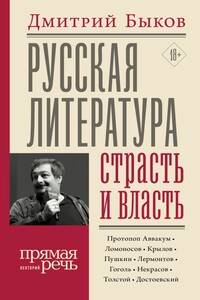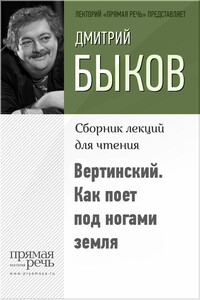Иностранная литература: тайны и демоны | страница 37
Глубже всех маленького человека как явление амбивалентное понял Гоголь, который сделал и своего Акакия Акакиевича, и своего капитана Копейкина страшным мстителем. Ведь, как правильно замечает Борис Михайлович Эйхенбаум, чем была бы «Шинель» без финала, – появления огромного усатого привидения, которое сдирает шинели со всех проходящих, – довольно сумрачным банальным анекдотом, житейским абсолютно[20]. Но этот маленький чиновник, жалкий, забитый, затравленный, далеко не всегда являет собою идеальный объект жалости. Если бы Акакий Акакиевич не был последним и самым забитым в своей конторе, очень возможно, что он оказался бы среди тех, кто травит последнего и самого забитого. Маленький человек, если дать ему власть, ведет себя в полном соответствии с героем известного романа Ганса Фаллады «Маленький человек, что же дальше?». Он превращается в монстра, потому что маленький человек – безусловно, явление монструозное. О том, что являет собою этот маленький, забитый человек, дорвавшийся до власти, мы в России знаем слишком хорошо. Вот только слышать об этом, думать об этом никто не хочет. Мы, как герои Венечки Ерофеева, начинаем возмущаться: «Мы мелкие козявки и подлецы, а ты Каин и Манфред…» – и начинаем ненавидеть Каина и Манфреда.
Реванш сентиментализма – это и есть наше мстительное попрание наших же былых идеалов. Первым произведением, в котором содержалось это разочарование, был, конечно, «Евгений Онегин»: «И столбик с куклою чугунной / Под шляпой с пасмурным челом, / С руками, сжатыми крестом… / Уж не пародия ли он?» Естественно, после разочарованности в байронизме, разочарованности в романтическом сверхчеловеке в литературе надолго воцарились слезы.
Настоящим мастером сочинения такой смеси сентиментальности и готики был Ганс Христиан Андерсен. Андерсен, который в 1835 году опубликовал первую порцию своих сказок, в это время гораздо влиятельнее Диккенса, не говоря о том, что он на семь лет старше.
Сам очень сентиментальный, Диккенс считал Андерсена гением детской литературы. Они познакомились в июне 1847 года, когда сорокадвухлетний Андерсен, автор знаменитых сказок, во всем мире обожаемый и переводимый, приезжает к Диккенсу, который только-только становится популярен в Европе, хотя Англия им уже бредит. (И кстати, русский переводчик Иринарх Иванович Введенский в том же 1847 году присылает Диккенсу письмо с предложением переводить появившиеся в печати куски «Домби и сына».) У Диккенса к тому времени вышли четыре из пяти «Рождественских повестей», и писал он их под сильным андерсеновским влиянием. И вот здесь мы с сожалением замечаем, как ужасно, когда больной гений влияет на здорового.