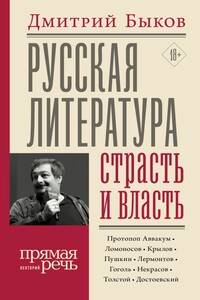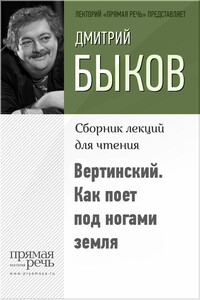Иностранная литература: тайны и демоны | страница 28
Зрелый Шекспир с его пьесами вызывает не просто недоверие современников, не просто зависть собратьев по перу, потому что зависть – вещь нормальная, это даже скорее комплимент, – Шекспир вызывает откровенное непонимание. Ведь до XIX века, когда благодаря Эдмунду Кину, прославившемуся в шекспировских ролях, вспыхивает заново интерес к шекспировской драматургии, Шекспир подвергается беспощадным переделкам. Александр Абрамович Аникст совершенно справедливо замечает, что часто эти переделки, например, переделка «Антония и Клеопатры», становились обычными классицистскими пьесами. Еще в 1677 году Джон Драйден перекроил «Антония и Клеопатру» по канонам классической драмы под названием «Всё за любовь, или Красиво утраченный мир» – одно название чего стоит! Но Шекспир не укладывается в каноны классицизма. И многие его пьесы переписываются заново, приводятся к единству времени и места, жанра, действия; из трагедий изымаются комические, фарсовые эпизоды, из «Короля Лира» убирают шута – тексты Шекспира в XVII–XVIII веках шли в абсолютно неузнаваемом виде. Почему? Потому что Шекспир – неформат. И мы так мало знаем о Шекспире потому, что и для современников своих он был неформатом. «Гамлет», в котором 4042 строки, невозможен был для постановки, поэтому его жесточайшим образом кастрировали, ужимали, и шел он в виде, сокращенном едва ли не на треть. Более того, большинство пьес Шекспира вызывали жесточайшие насмешки. Например, в нескольких сохранившихся пьесах студентов Кембриджа, которые аристократическое студенчество разыгрывало между собой, содержатся злые пародии на Шекспира. В одной из пьес есть такой персонаж Галлио (от английского gull – шут, паяц, обманщик), который изъясняется эвфуистически, изъясняется вычурно, витиевато и над которым все посмеиваются: «Ну чистый Шекспир!» И это в данном контексте далеко не комплимент.
Бен Джонсон незадолго до смерти, в 1637 году, говорит (сохранились его устные высказывания, записанные мемуаристами):
Он был человеком честной, открытой и свободной натуры, обладал великолепной фантазией; отличался смелостью мысли и благородством ее выражения; поэтому он писал с такой легкостью, что по временам следовало останавливать его…[13]
И действительно, всем современникам Шекспира хотелось его остановить. Даже «Гамлет», пьеса, которая стала символом театрального успеха, величайшая из мировых пьес, встречена была исключительно прохладно: слишком много монологов, слишком мало действия. Пьеса шла недолго и долго пребывала в забвении. Настоящая реинкарнация и возрождение «Гамлета» – это XVIII век. Но даже в 1847 году, переводя «Гамлета» на французский – первый, наиболее удачный из ее французских переводов, – Дюма-отец говорит, что пьеса до сих пор полузабыта и надо вернуть ей настоящее признание, настоящую славу. И в России «Гамлет» становится по-настоящему понятен только в тридцатые – сороковые годы XIX века, в 1820-е годы он известен единицам, и только Пушкин замечает: