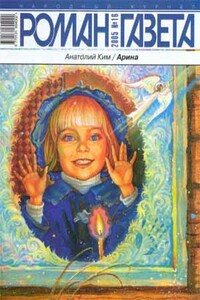Вкус терна на рассвете | страница 30
А в тот летний вечер, когда нас вместе назначили на чистку картошки, я спросил у Саньки Рунова:
— Значит, ты его еще вечером поймал?
— Ну…
— А где же вы всю ночь пробыли?
Мы сидели на кухне на поленьях, сняв широкие солдатские ремни, расстегнув воротнички гимнастерок и закатав рукава. На Саньке было полинялое, чистенькое обмундирование. Вокруг шеи белел подворотничок, аккуратно обшитый (по соображениям солдатской моды) прозрачным целлофаном. Санька ответил вопросом:
— Неуж тебе кто проболтался?
Спросил настороженно, вкусно выговаривая «о». На мгновенье он отвел взгляд от ловко работавших рук и поднял на меня серые, со стальным отблеском глаза; и они, посаженные с изящным раскосом, казались глазами какой-то птицы; и весь он сам, собранный, подтянутый и опрятный, был схож с этой неведомой мне птицей — некрупной, стремительной, сильной; и это сравнение приходило мне в голову всегда, когда видел я небольшую, слегка кривоногую, но ладную и крепкую его фигуру, когда наблюдал его быстрые, но всегда точные движения… Я удивился вопросу.
— Нет, — ответил ему. — А что?
— Ничего, — сказал он и улыбнулся. — Курить найдется?
Мы закурили. Пела вода, точась каплями из питьевого бака, падая с высоты в помойное ведро. Алюминиевые бачки, добела надраенные, стояли ровными рядами на деревянных некрашеных полках. В большой бак время от времени ныряла, чавкнув, очищенная картофелина.
— А все же, — продолжал я, — где вы ночь пробыли? Холод был — страшно вспомнить. Померзли, наверное?
— Было такое, — сказал Санька и вновь повторил: — А тебе точно никто не сболтнул?
— Никто ничего. А что? — удивился я.
— Да так…
— Что-то темнишь, друг.
— Да рассказывал я тут кое-кому… Было подумал: ай трепанулся кто?
— О чем? — спросил я. — Чего ты тюльку травишь?
— Много будешь знать — скоро помрешь, — сказал он тогда, поблескивая лукаво глазами, но в конце концов рассказал, как было дело, и его рассказ ошеломил меня с самого начала, потому что он начал со следующего:
— А я чуть не отпустил. Хотел было сам отпустить гада.
— Что?
— Точно. А потом он у меня сбежал.
— Как?!
— А вот так. Хорошо еще, что вовремя сбежал, а то ведь отпустил бы его, факт.
Было уже поздно. В казарме все поулеглись, притихли; сквозь закрытую кухонную «амбразуру» слышалось, как дневальный бухает шваброй в столовой. О проволочную сетку, набитую на раму окна, бились в бесполезном экстазе тысячи мотыльков, бабочек и каких-то бледных летающих тварей, не понимающих тщеты своих устремлений. От их безумного танца возникал звук — мягкий шорох, — как если бы беспрерывно осыпалось что-то очень легкое, очень нежное.