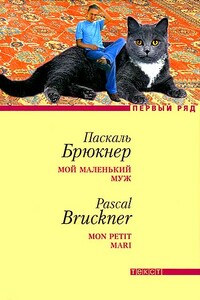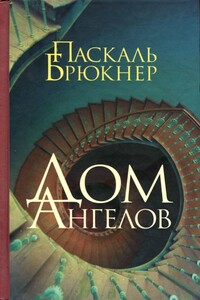Недолговечная вечность: философия долголетия | страница 95
Заявления о том, что близится смерть смерти (притом что другие заявляют о надвигающемся конце света), приводят нас в недоумение по многим причинам. Эти громогласные пророчества сильно рискуют, стремясь к звездам, оказаться в ручье, как говорил Гегель об эрудиции. То, что когда-нибудь, вероятно, любой человек сможет дожить до тысячи лет, разве делает долголетие таким уж желанным? Так уж необходимо упорствовать в своем желании жить, век от века обременяя планету своим присутствием? Нельзя не вспомнить о парадоксе Одиссея, который по дороге домой на Итаку в результате кораблекрушения попадает на остров к нимфе Калипсо, где в течение семи лет она лелеет и ублажает его, став его любовницей. В обмен на волю прекрасная тюремщица предлагает ему дар бессмертия. Однако Одиссей, тоскуя и стеная на берегу, мечтает вернуться к своей семье. Калипсо надоедает ему, вынуждая удовлетворять ее каждую ночь. Пусть Пенелопа и не может похвастаться красотой богини, он хочет вернуться к ней, вновь увидеть свое отечество и родных. Близкое и знакомое влечет его сильнее, чем неизвестное. Зевса трогают жалобы пленника: через Гермеса он повелевает Калипсо отпустить Одиссея домой. За четыре дня он строит плот и, получив в изобилии от хозяйки острова благовония и яства, пускается в путь по волнам, переживает еще одну страшную бурю и прибывает наконец к родным берегам.
Текст об этих приключениях Одиссея может читаться как минимум двояко: Одиссей, несмотря на влечение к Калипсо, ясно выражает свое предпочтение смертного, а значит, конечного существования. Что же до Калипсо, то, привязавшись к Одиссею, она уже не может скрыть факта, что она, бессмертная, потеряла голову от любви к смертному, к скоротечной жизни. То, о чем говорит нам Гомер, поражает своей глубиной: боги, удел которых — жить вечно, боги незримые и вездесущие, оказывается, завидуют смертному человеческому уделу. И разве сам Иисус Христос, придя смертным человеком на землю, не проявил свою любовь к Боговоплощению, удостоверяя величие вечности во времени, но также удостоверяя и значение времени для Предвечного. Слезы, которые Он пролил на Кресте, — это человеческие слезы. Отвечая влекомым «летучим воображением» умам, вопрошающим: «Что делал Бог до того, как сотворил небо и землю?», блаженный Августин замечает, что вопрос этот не имеет смысла, поскольку как мог Господь, «творец всех веков и времен», что-то делать до творения, если само время еще не было сотворено? А там, где нет времени, нет никакого «до» и «прежде» [7]. И все-таки вопрос этот не бессмыслен. По установленной форме наш мир — в том виде, в каком мы его знаем, — был создан Всемогущим, чтобы вечность представлялась для нас желанной. А что, если все было наоборот? Если Господь придумал наш мир потому, что устал от своего положения? Разве он не любит безмерно свое творение, даже если и побуждает своих созданий приложить все усилия, чтобы попасть к нему в рай? А что, если его всемогущество было его слабостью, если долгом людей было помочь ему умереть? Именно недолговечность человеческой жизни и есть подлинное чудо, а вовсе не фантасмагорические построения разных религий, сулящие нам блаженство, иначе говоря — состояние, с нашей точки зрения, вечного оцепенения. Услады Рая не так сладки, как мимолетная человеческая жизнь. Если и существует вечность, она здесь и сейчас — там, где мы живем.