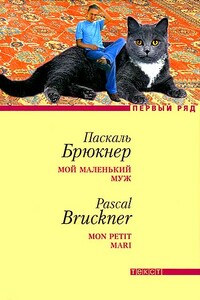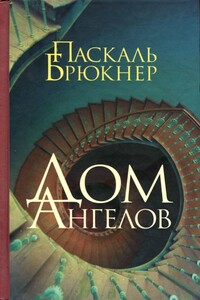Недолговечная вечность: философия долголетия | страница 18
Возраст философских размышлений
Наша жизнь год за годом пополняет каталог бед и грехов столь очевидных, что было бы скучно их перечислять. Но если мы будем цепляться за этот покаянный список, мы упустим самое важное: мы живем всё лучше и лучше и умираем всё позже. В том возрасте, когда наши предки уже входили в царство теней, мы испытываем радость и вместе с тем беспокойство оттого, что мы живы, способны чувствовать и избежали тяжелых болезней. Это ничем не объяснимая радость существования, нахождения в собственном теле, пусть уже и в потрепанном. Уже не все возможно, но многое еще позволено. В 1922 году Марсель Пруст получает Нобелевскую премию, отобрав победу у Ролана Доржелеса, представлявшего молодое поколение писателей-фронтовиков. На следующий день газета «Юманите» выходит под заголовком «Дорогу старикам!». Прусту в это время только 48 лет. Кто из нас сегодня назвал бы «стариком» или «старухой» мужчину или женщину 48 лет? В 50 лет жизнь только и начинается по-настоящему: мы наконец можем наслаждаться молодостью, упущенной в 20 из-за того, что нужно было сдавать экзамены, получать аттестат зрелости, искать работу, проходить испытательный срок, искать оправдания, что не пошел в университет, прощаться с детством, переживать первые бурные истории любви, в одиночку нести груз непривычной свободы. Искать себя, обманываться, разрываться в выборе между возможностями, ни одна из которых нам не нравится, слышать каждое утро, что на нашу долю выпала непомерная удача, — какой же это кошмар, если вдуматься! И вот мы строим свою жизнь, одновременно разрушая себя с помощью алкоголя, наркотиков, всякого рода излишеств в угоду конформизму, общественному давлению. Молодость обладает красотой, бодростью и любопытством, но это возраст подражания, когда действуют на ощупь, спотыкаются, поддаются влиянию моды и идеологии. В зрелом возрасте имеется опыт, но утрачиваются живость и задор. Взрослея, мы непременно ощущаем преимущества и недостатки: те и другие никак не могут прийти к согласию, найти равновесие.
Жизнь в западном мире дается только один раз: у нас не будет другой, чтобы наверстать упущенное, в отличие от буддизма или индуизма. Вместе с понятием кармы эти две религии изобрели пробный опыт судьбы: в нашем нынешнем существовании мы расплачиваемся за прошлые ошибки и в каждом новом жизненном цикле очищаемся от наших пороков вплоть до полного освобождения. Восток пытается найти избавление от этой жизни, а Запад — в этой жизни. Единственным средством для первого будет не рождаться больше, а для второго — раз за разом воскресать в течение одного и того же периода времени. Какой будет вечность для христианина — решается на кратком отрезке времени, тогда как индус, чтобы избежать тягостного существования, имеет в своем распоряжении ряд последовательных перевоплощений, в ходе которых его душа очищается. С тех пор как Европа на рубеже XV и XVI веков вырвалась из пут Средневековья — мира, где все предопределено и каждый является заложником общественного положения, религии, происхождения, — перед человеком забрезжила новая надежда: отныне он сам будет творцом собственной судьбы и сам станет распоряжаться своей жизнью. В его власти будет низринуть преграды — социальные, психологические и биологические, — и он вступит в эру бесконечного сотворения самого себя. Именно эти светлые надежды и лежат в основе американского мифа о «self- made man». Но мы еще очень далеки от того, чтобы эта мечта воплотилась в жизнь, и проклятие детерминизма тем сильнее, чем больше нам кажется, что мы его победили. Тем не менее наша современность переняла от эпохи Просвещения, в которую она зародилась, одну восхитительную черту: она является коллективным бунтом против неизбежного.