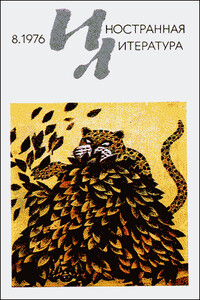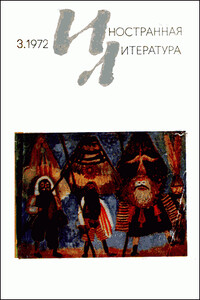Немного пожить | страница 44
— Без этого я тем более обойдусь.
— Почему? Это слово не грубое.
— Да, оно шуточное.
— Ты внедряешь новый критерий?
— Ничего я не внедряю. Шуточность — двоюродная сестра вульгарности, она высмеивает серьезные вещи.
— Что серьезного в твоем о-рехе?
— Все.
— Как насчет гульфика? Знаешь хоть, что это?
Шими не хотел выглядеть неучем.
— Как же не знать? Это чехол для твоего о-реха.
Шими недоумевал, на что он сдался Пэджетту. Он не сквернословил с ним на пару, не посещал с ним футбольные матчи, не ездил автостопом по субботам в Стэнмор, искать «куколок». Но Пэджетт все равно навязывался к нему в друзья. Однажды Шими пригласил его к себе домой. Пэджетт сразу подошел к фотографии Сони-невесты, нагло посмотрел Шими прямо в глаза, стряхнул на пол перхоть и сказал:
— Теперь понятно.
— Что тебе понятно?
— Какая куколка! Понятно, почему ты был в нее влюблен.
А однажды душным осенним днем, когда они, улизнув со школьного кросса, залегли в укромном уголке луга и стали, дымя одной сигаретой Player’s на двоих, хлебать из фляжки Пэджетта шерри, тот, опершись о землю локтем, навис над Шими и сказал:
— Я не хотел сказать о твоей матери ничего плохого на той неделе.
— Знаю. Не хочу о ней говорить, вот и все.
— Понимаю, догадался.
— О чем ты догадался? Тут не о чем догадываться.
— У всех нас есть секреты. Только это я и хочу сказать.
Шими стал разглядывать небо. Обычно небеса его не интересовали. Небо — оно небо и есть. Но это небо было светло-голубым, в нем плыли ватные облачка, похожие на овечек. Облачка из колыбельной, терпеливо ждавшие, пока о-рех их осквернит.
Шими хлебнул еще шерри и вытер рот. К черту! Что бы там Пэджетт ни знал, ему все равно.
— Пошли, — сказал он. — Остальные уже, наверное, в душе. Пора возвращаться.
Тут он почувствовал, как чужая рука расстегивает пояс на его шортах, и увидел, как «Орешек» Пэджетт сует руку ему в штаны. Преодолевая ужас, Шими пустил в ход одну из своих мрачных шуточек:
— Зря я забыл сегодня надеть суспензорий.
— Не беда, — проворковал «Орешек» неслыханным голосом чистейшей сладостной вкрадчивости. Голосом тлена, похожим на запах в доме Шими в те месяцы, когда там угасала его мать. — Расслабься. Я знаю, что делаю. Со мной ты в безопасности. Это так, ерунда.
Но для Шими Кармелли ерунды не существовало.
— Ну, как знаете, — уступил Маноло Кармелли, услышав от жены, что она не возражает, чтобы Шими сидел на полу у ее ног и измерял себе рулеткой голову. Но одно дело слова, другое — отношение. С его сыном определенно было что-то не так. Увидев в следующий раз рулетку, он ее конфисковал; с керамическим френологическим бюстом он поступил бы так же, если бы не помедлил, признавая изящество этого изделия. Шими явно испытывал любовь к этому бюсту, испещренному дурацкими метками, разграничивающими способности мозга мыслить и чувствовать; нельзя было отрицать, что плодам сыновнего труда — рисункам карандашом и пластилиновым копиям бюста — присуща своеобразная красота.