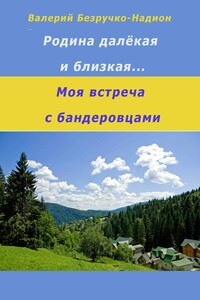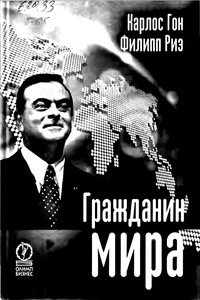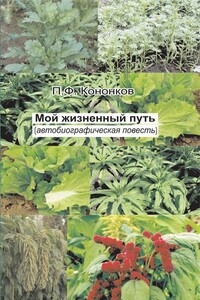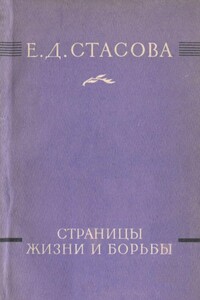Сны памяти | страница 47
Однако ж среди всех этих бредней меня иногда посещали здравые вопросы: почему это могучая Красная Армия так долго чикается с крохотной Финляндией, которую и на географической карте едва разглядишь? Почему было не сшить белые маскхалаты для наших красноармейцев? А что, на лыжах бегать никто у нас не умеет, что ли?
Впрочем, на эти зловредные вопросы, которые у меня хватило ума не задавать взрослым, я самостоятельно нашла простенький ответ. Понятно, белофинны-то готовились нанести удар, а мы ведь мирные люди, зачем нам лыжи, если мы ни на кого нападать не собирались.
Закончилась кампания как-то незаметно для меня. Насколько я помню, ее считали победоносной для СССР — ведь «белофинны» были вынуждены подписать мир на наших условиях, отдать Карелию, из которой образовалась еще одна советская республика, Карело-Финская ССР. Значит, мы таки победили!
В 1959 году я поехала в Ленинград на лингвистическую конференцию. Поехала самочинно, без доклада, просто так, мне очень хотелось хоть увидеть, хоть послушать доклады лингвистов, чьи работы я читала. Ни одного человека из участников конференции я не знала, Ленинград тоже увидела впервые в жизни. И вот однажды на доске объявлений в ЛГУ прочитала примерно такое объявление: кто хочет пойти в поход на Черную Речку — записывайтесь на этом листе — фамилия, размер обуви. Я записалась так, как было указано. И в объявленный день и час отправилась на сборный пункт, по-прежнему не зная ни души и не предполагая, что наступил поворотный момент моей жизни. В углу, где толпились походники, рыжий малый в брезентовой куртке раздавал желающим походные башмаки: участницы-то приехали на конференцию — кто в туфельках, кто вообще в лакировках — в обуви, непригодной для походов. И рыжий, это был Игорь Мельчук, его имя мне встречалось в лингвистических журналах, на конференции он уже читал доклад, вот в том, в чем был сейчас, в брезентовой куртке. Он повел нас на Черную речку, по ходу дела рассказывая о том, о сем — о дуэли Пушкина… «А вот здесь, — говорит он, — проходила знаменитая „Линия Маннергейма“, откуда белофинны собирались брать Ленинград»… — и понес всю ту ахинею (надо сказать, что Мельчук — в точности мой ровесник, стало быть, прошел такую же идеологическую обработку, как и я), с которой я распростилась к своим 19 годам. Мы с ним маленько поспорили. Не помню, кто в этом споре одержал верх, да это, по-моему, теперь и неважно. Этому же походу я обязана одним из ценнейших достижений моей жизни — знакомством, а потом и дружбой с Симой Никитиной, мне кажется, мы ней сошлись по душевному родству. Об этом я, может быть, более подробно расскажу в другом месте.