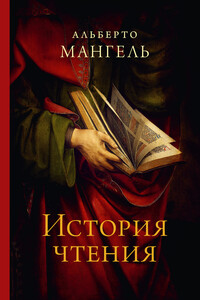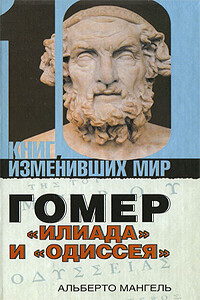Curiositas. Любопытство | страница 20
Простые читатели (в отличие от историков) мало внимания обращают на точность исторической хронологии и следят за событиями и диалогами, минуя века и культурные барьеры. Через четыреста лет после странствия Данте один любопытный шотландец придумал систему, которую «замыслил, когда <ему> не было и двадцати одного года, а завершил к двадцати пяти»: она позволит письменно формулировать вопросы, рожденные его недолгим опытом постижения мира[47]. Он назвал свою книгу «Трактат о человеческой природе».
Дэвид Юм родился в Эдинбурге в 1711 году, а скончался в 1776-м. Он учился в Эдинбургском университете, где описал «новое поприще мысли» Исаака Ньютона и «эмпирический метод рассуждения о моральных предметах», посредством которого можно установить истину. Его семья хотела, чтобы он выбрал юридическую стезю, но сам он чувствовал «глубокое отвращение ко всякому другому занятию, кроме изучения философии и общеобразовательного чтения, и, в то время как <его> родные думали, что <он увлекается> Воэцием и Виннием, втайне пожирал Вергилия и Цицерона»[48].
Когда в 1739 году его трактат был опубликован, встретили его по преимуществу недоброжелательно. «Едва ли чей-нибудь литературный дебют был менее удачен, чем мой „Трактат о человеческой природе“, – вспоминал философ несколько десятилетий спустя. – Он вышел из печати мертворожденным, не удостоившись даже чести возбудить ропот среди фанатиков»[49].
«Трактат о человеческой природе» – выдающееся свидетельство веры в способность рационального ума к постижению мира. Исайя Берлин в 1956 году скажет об авторе: «Никому не удавалось оставить более глубокий след в развитии философии и так ее всколыхнуть». Сетуя, что в философских диспутах «не разум превыше ценится, а красноречие», Юм так же красноречиво задавал вопросы, касающиеся утверждений метафизиков и теологов, изучая саму суть любознательности. Опыт первичен, утверждал Юм, без него ни одна вещь не может явиться причиной для другой: именно опыт помогает нам понимать жизнь, а не умозрительные абстракции. Однако внешний скептицизм Юма полностью не отвергает возможность знания: «Природа слишком сильна: она не знает оцепенения, свойственного полному отсутствию веры»[50]. Опыт природного мира, с точки зрения Юма, должен направлять, формировать и подкреплять все наши искания.
В конце второго тома «Трактата о человеческой природе» Юм пытается обозначить различие между любовью к знаниям и естественным любопытством. Последнее, как он пишет, – это аффект, происходящий «из совершенно иного принципа». Яркие идеи оживляют восприятие и вызывают чувство удовольствия, относительно близкое к тому, что можно назвать «умеренной страстью». Зато сомнение становится источником «разнообразия мысли», перенося нас от одной идеи к другой. И это, по мнению Юма, «должно быть поводом к страданию». Возможно, невольно вторя процитированным выше строкам из Книги Премудрости Иисуса, Юм утверждает, что не каждый факт вызывает наше любопытство, но рано или поздно один из них покажется достаточно важным, «если идея поражает нас с такой силой и так близко нас касается, что ее неустойчивость и непостоянство доставляют нам неудовольствие». Фома Аквинский, чье представление о причинности Юм всерьез оспаривал и считал неубедительным, имел в виду то же различие, говоря, что «любомудрие непосредственно связано не с самим знанием, а с желанием и усердием в стремлении к знанию»