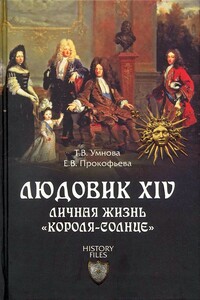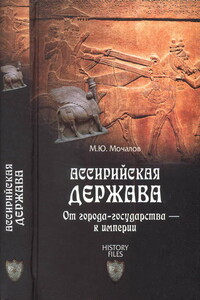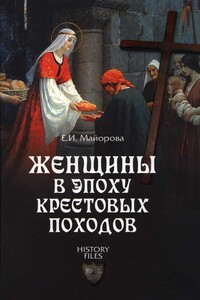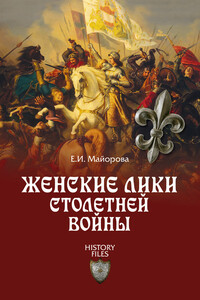Спарта. Миф и реальность | страница 7
С другой стороны, то, что в Большой ретре архагеты упоминаются в одной связке с членами совета старейшин, или геронтами, позволяет предположить, что спартанские цари были названы архагетами как члены и председатели герусии. Этот титул определял их положение в герусии при Ликурге — первые среди равных, и не более того. Возможно, в этой фразе — «учредить герусию из 30 членов с архагетами совокупно» (Plut. Lyc. 6. 2) — было закреплено новое качество спартанских царей, которые, став при Ликурге членами герусии, были тем самым поставлены под контроль общины.
После этих кратких, но необходимых замечаний рассмотрим различные стороны деятельности спартанских царей — их военные, сакральные и юридические функции. Нанта сведения на этот счет, как правило, ограничены периодом классики, так как именно от этой эпохи сохранилось наибольшее количество источников.
Цари как главнокомандующие спартанской армией
Цари в Спарте прежде всего являлись верховными главнокомандующими. Об этой стороне их деятельности сохранилось немало свидетельств у древних историков, особенно у Геродота и Ксенофонта.
В архаический период, до значительного усиления эфората, спартанские цари обладали неограниченной военной властью. Как руководители войска они имели право по собственному усмотрению объявлять набор в армию и отправляться в поход в любую землю и в любом направлении, не советуясь с прочими спартанскими властями. Как свидетельствует Геродот, «ни один спартанец не смеет им противодействовать, в противном же случае подлежит проклятию» (VI. 56). Таким образом, в Спарте авторитет царей как военачальников поддерживался не только законом, по и религией. Их призыву, как призыву гомеровских царей, должны были повиноваться все военнообязанные (Her. VI. 56). Во время похода цари обладали всей полнотой власти и даже имели право карать смертью без какого-либо судебного разбирательства любого воина, проявившего трусость или недисциплинированность (Thuc. V. 66; Xen. Lac. pol. 13. 10; Arist. Pol. III. 9. 2. 1285 а). Они имели право заключать с врагом перемирие, вырабатывать предварительные условия мира и уводить армию домой (Thuc. V. 60. 1; 63. 1; Xen. Hell. III. 4. 5; 5. 23; 5. 34).
Вплоть до конца VI в. цари в военное время, как правило, вместе руководили войском (Her. V. 75). Но почти непрерывная и продолжительная вражда обоих царских домов отрицательно сказывалась на эффективности их совместной деятельности и в конечном счете, нарушала интересы всей общины. Ведь успех любой военной кампании был связан с принятием ответственных совместных решений. По крайней мере, один царь не мог отдавать распоряжения, имеющие законную силу, против воли другого царя. Случаи неэффективного и даже «провального» коллективного руководства привели к тому, что в конце VI в. с этой практикой было покончено.