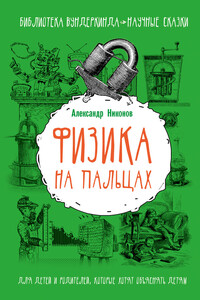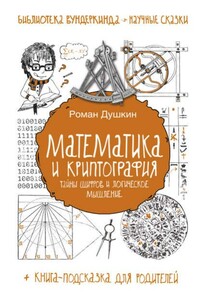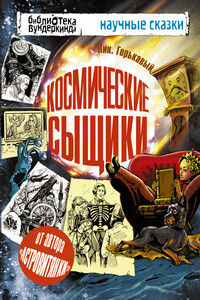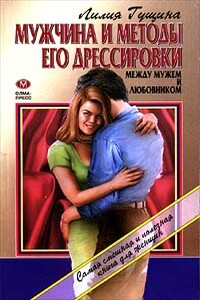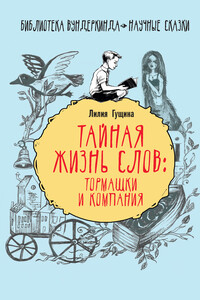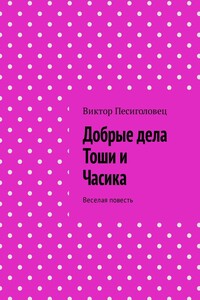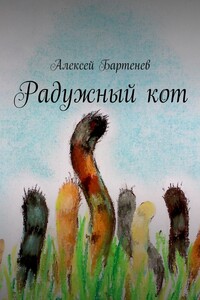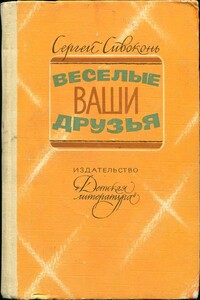Словарные игры и не только. Ики, пики, грамматики | страница 15
Потихоньку паразит из религиозного служки превратился в изысканного остроумного наперсника богатого юноши, его собеседника на пирах, который повсюду его сопровождал. Видимо, не всем хозяевам нравилось кормить ещё и свиту, тем более что паразиты отличались отменным профессиональным аппетитом.
Обязанностью паразита было рассыпать комплименты и остроты. А это уже не такое престижное занятие, как сопровождение священных ритуалов. За неудачные остроты паразита могли и выставить за дверь. Но удачные – запоминали, повторяли, записывали. Между прочим, всегда с указанием авторства. Так и до нас дошли имена античных мастеров застолья – Корил, Титималл, Мосхион и т. д. Параситов не путали с этиписитиями (поденщиками, работающими за еду) и ситокурами (дармоедами).
На Руси паразита назвали «приживальщик» и поселили практически в каждом богатом (и не очень) доме, в согласии с потребностью в общении и новостях из мира по ту сторону теремных дверей и наказом Домостроя: «Нищих, маломощных, и бедных, и скорбных, и странных пришельцев призывай в дом свой, и по силе накорми, напои и согрей».
А само слово «паразит» эмигрировало к нам аж в девятнадцатом веке из Франции, и сразу в привычным сегодня значении – тунеядца в ассортименте (от растения до человека).
Однокашник – товарищ по учёбе. Из-за сходства звучания и значения мы воспринимаем это слово как фонетическую вариацию «одноклассника». Ну, время маленько деформировало словцо, с кем не бывает? Но, призадумавшись, понимаем, что ни «класс» в «кашу», ни наоборот, никакие превратности лингвистической судьбы превратить не могли.
Существующие этимологические толкования путанны и неубедительны. Большинство ссылается на рукописный словарь Академии наук 1792 года, где «каша» – «малое сообщество людей», в основном, артель, в которой взрослые, неграмотные мужики и ели, и спали, и работали гурьбой.
Но слово «однокашник» попало в активный оборот в 30-е годы девятнадцатого века и сразу в привычном нам значении: те, кто провёл детство в одном учебном заведении. Тогда это были молодые люди, главным образом из дворянских семей, окончившие кадетские корпуса, которые в начале столетия понаоткрывали по всей Российской империи, и в которых мальчиков муштровали с шести лет. Где артельщики и где кадеты?
А вот каша действительно была и у тех и у других. Только у артельщиков – разная, у кадетов – гречневая, с маслом. Ею через раз кормили на ужин, и после дневных жидких супов и ненавистных котлет она была упоительным лакомством. Ею воспитанники потихоньку набивали свои карманы и шапки. «Бывало… унесешь с собой в камеру, спрячешь под подушку и поутру лакомишься этой кашею, вынимая её пригоршней». При каждой попытке заменить кашу «тощими пирогами с ароматной внутренностью давно убитого скота» кадеты устраивали «кашные» бунты.