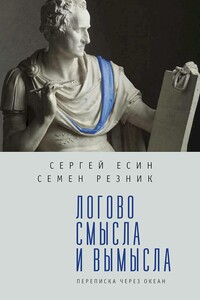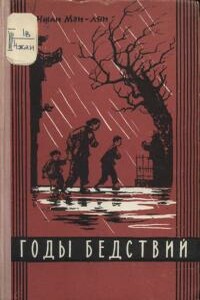Смерть приходит по английски | страница 29
С каждым днем автору все определеннее кажется, что жизнь — это действительно сон, и в связи с этим автор уже перестает отчетливо различать, где события его собственной жизни, которые он перекладывает в повесть, выдавая их за жизнь героя, а где — мечтания и немудреные биографические выдумки его персонажа. Сейчас автора преследует словосочетание, в свою очередь, составляющее название классической пьесы. Автор пишет его, название, без большой буквы, которая в грамматике соответствует названию или имени. Что делать, если «любовь к трем апельсинам» преследует его? Что ему здесь, в этом словосочетании, нравится, вызывая в сознании какое-то непреодолимое волнение? Отголоски ли оперы Прокофьева, шедшей в Большом театре лет двадцать пять назад? Или стойкий и свежий, как сама молодость, цвет этого круглого, как солнце, плода? Навсегда и горестно утонувшая молодость, так автор думает, здесь является главным увлекающим компонентом. Но у тоже совсем немолодого героя повести все это ассоциируется с другими картинами. Во-первых, апельсинов, вызывающих любовь, было не три, а двенадцать, и все они говорили, кроме русского, — извини, первоначальная задумка! — на французском языке. На английском, на русском — какая разница, когда идея сохраняется: у всех этих красавиц-студенток вторым языком был еще и английский. И есть уравнивающий всех, в том числе и основную идею этой повести, аргумент. В конце концов, отделение, на котором в Московском университете изучают европейские языки, называется романо-германским. Здесь отчетливый намек на истинное положение дел: «романо» — это, конечно, в первую очередь намек на романские народы, следовательно, и на французов. Но какие это были милые и прелестные девочки, когда в своих легких летних платьицах они порхали, как бабочки, по большой квартире в центре Москвы! И герой повести, и автор здесь соединяются в одной общей для них ассоциации при воспоминании о том девичьем собрании — все вместе девочки напоминали коллекцию бабочек или — это вернее — воздушных, похожих на разноцветные бесплотные тени девушек с картин Борисова-Мусатова. Это во-вторых.
8
Ах, какой я талантливый, но только бы еще знать английский язык! Сколько можно было бы тогда узнать, сколько приобрести удобных и выгодных знакомств!.. Эта фраза никогда не произносилась, более того, она даже никогда и не формулировалась. Просто возникало некоторое неудобство, преодолимое, впрочем. Время тогда было советское, с языком мучились специалисты, а в критических случаях у больших и не очень больших начальников при необходимости, конечно, всегда находился переводчик. Хотя ни автор, ни герой, иногда выезжавшие за границу, никогда не знали: просто ли переводчик из любопытства наблюдает, или по службе, или так, не наблюдая, переводит? Тогда, выкручивая разнообразные и непрямые в переговорах и в речах смыслы, красуясь, герой не задумывался о том, что с этими изысканными политическими, этическими и художественными смыслами переводчик часто поступал в силу своего разумения и знания языка. Переводил по общему правилу: лишь бы не молчать и не мямлить. Закон перевода: если не знаешь, то — как Бог на душу положит, главное не молчать. Но все-таки оставалось ощущение выполненного долга.