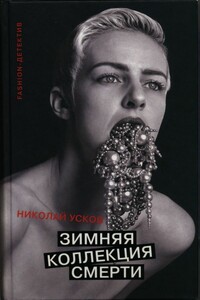Ardis. Американская мечта о русской литературе | страница 45
Проффер, описывая тот же вечер, отмечает, что «мы и по сию пору ведем с Иосифом подобные… споры, и, насколько мне известно, никто из нас никогда не принимал их чересчур близко к сердцу, но Андрей был очень расстроен и через несколько лет разорвал с нами отношения, решив, что у нас, особенно у Эллендеи, слишком уж левые взгляды»[105].
Неприятие коммунизма к тому моменту уже стало общим местом в интеллигентной столичной среде. С оттепелью и особенно после вторжения в Чехословакию ушли последние иллюзии по поводу социализма, если у кого-то они еще были. Ни афроамериканцы, ни студенты, ни вьетконговцы не могли найти сочувствия у людей круга Бродского хотя бы потому, что их превозносила советская пропаганда. «Мне жаль это говорить, я люблю людей, но вы должны отправиться туда и сбросить на них водородную бомбу. Это очень печально, но они же не люди», — говорил Бродский двум американским университетским либералам по поводу Вьетнама[106].
Если смотреть из сегодняшнего дня, не очень понятно, как после этого Профферы смогли сохранить с Бродским отношения: «Чудо, что наша дружба не разбилась в самом начале о камни политических разногласий», — удивляется Эллендея[107]. Встретившись с Михаилом Барышниковым (Бродский близко дружил с ним и обычно называл Мышью), я спросил Михаила Николаевича о политических взглядах поэта. Он пояснил, что подобные разногласия были у Бродского и позднее с Сьюзен Зонтаг, да и c самим Барышниковым: «Он не прошел Гарварда, а там очень учат спорить. Тон его задевал… Надо всe-таки отдавать противоположной позиции какой-то вес и необязательно расходиться в синяках»[108]. Но Бродский ни тогда, ни много позднее этого не умел. Только сила, неизмеримо большая, чем политические взгляды, могла удержать Иосифа и американских либералов рядом и объединять затем долгие годы: «Все мы были людьми, преданными своим убеждениями, пристрастными, и знали это друг о друге», — вспоминает Эллендея[109].
Чтобы разобраться в том, почему политические разногласия, переходящие в ожесточенные споры, не помешали Профферам завязать множество важных для будущего «Ардиса» отношений, надо понять, чем были американцы для русских конца 60–70-х годов.
«У нас украли мир», — говаривала Анна Ахматова. Усталость от железного занавеса развивала в интеллигентской среде тягу ко всему иностранному как к альтернативному и новому, способствовала рождению в сознании поколения идиллического образа «свободного мира». Его приятие без рефлексии и сомнения было актом самоопределения, интеллектуального отстраивания от тоски и пошлости тоталитарной реальности. Этот виртуальный образ чем дальше, тем больше обретал черты своего рода антикоммунистического Эдема, который архетипически схож с «небесной родиной» из видений средневековых монахов-мистиков.