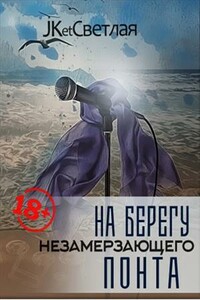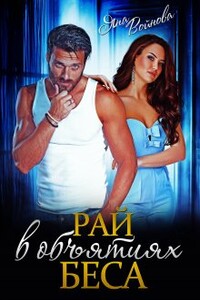Поскольку я живу | страница 41
Напоследок он получил неожиданное приглашение остаться ночевать, от которого отказался.
- Но почему? – похлопала Мила длинными темными ресницами. Неожиданно блеклая после стольких лет, обесцвеченная. Почти прозрачная.
- Потому что не хочу, - легко пожал Мирош плечами, не желая изображать семью. Наелся еще в юности. Взаимной ответственностью и любовью напоказ. Сейчас уже незачем притворяться. Отец давно отошел от политики после перемен в стране и в жизни. И, словно бы радуясь тому, что снял с себя эту удавку, окончательно оставил мать – вплоть до штампа в паспорте. А Иван… даже жил в другом измерении.
Измерении, в которое никого уже не впускал. Оно включало в себя отели, самолеты, инструменты и море – чаще чужое, не свое.
От матери Мирош под неумолкающими каплями дождя, бьющими по крыше такси, уехал на вокзал, за билетом – база железнодорожников легла намертво, в онлайне его приобрести оказалось не под силу даже опытному терпиле. А при всем своем опыте Иван терпилой себя не считал. Однако поезда тоже входили в трехмерное пространство его измерения. Уезжать решил утренним и максимально комфортным, чтобы к обеду быть уже в Киеве. Заодно поинтересоваться, что там за чудо выбрала Рыба-молот.
Бейсболка и здоровенные темные очки скрывали его лицо. Но девушка на кассе все равно узнала. Задохнулась, покраснела. Молоденькая дурочка. И он – идиот. Надо было пристать к соседней очереди. Там дородная тетка под пятьдесят. И имелся вполне себе шанс, что она не в курсе, какая такая «Мета», какой такой Мирош.
Кассирша раскрыла было рот, чтобы что-то восторженно взвизгнуть, но Иван, чуть опустив очки, приставил палец к губам и, подмигнув, едва слышно выдохнул: «Тш-ш-ш». И она, по счастью, поняла. Только, восторженно похлопав ресницами, деловито спросила паспорт и с видом заговорщицы сунула в него пустой листок из блокнота. Сообразительная дурочка. Иван быстро черканул свой автограф и протянул ей его обратно вместе с деньгами за билет. Конспирация, мать ее.
А потом пешком отправился в гостиницу, в которой останавливался всегда, когда забрасывало в Одессу. Скрыл голову под капюшоном куртки. Пусть дождь. Он будет спать. Остаток дня и всю ночь продрыхнет, вконец измотанный и не способный ни думать, ни вспоминать. Так лучше всего. И, уж конечно, гораздо лучше, чем изводить себя мыслями о том, что где-то в этом городе, на этом берегу все еще существует то, что важнее его собственной жизни.