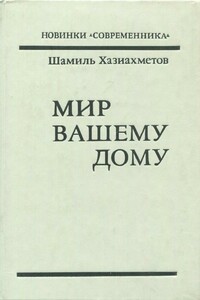Прощание | страница 2
И в памяти встал образ этой энергичной женщины и поэтессы. Как она заливисто смеется, как легко и свободно танцует с немного неуклюжим и застенчивым Янкой Купалой. И как подошла она к нему, к Максиму, дотронулась рукой до форменной тужурки и сказала: «Надо снять эту шкуру, приехать к нам навсегда, и хвороба пройдет». Но — пройдет ли?
Набягае яно
вечарамі, начамі,
адчыняе акно
І шамрэе кустам!...
Он всегда доверял своему вдохновению, целиком отдавался во власть музыки, которая возникала в нем, не зажимал ее, не сдерживал, не ограничивал. Листки бумаги покрывались мелким, но очень четким почерком, они ложились один к одному, парами, спустя какое-то время он возвращался к ним, Тогда начиналась работа, шлифовка, проверка ритма, замена слов. Его мягко упрекнули в книжности языка. И теперь, обрабатывая стихи, он всегда помнил этот упрек. А мысли музыкальной волной текли и текли и отливались в задушевные, в заветные строки:
I гавора адну
старадаўнюю казку —
аб любоў і вясну
і жаночую ласку...
И волна проходит, музыка стихает. И снова внимание привлекает тонкая песня самовара. О чем эта песня? О любви? Чувство тоски по родине, которое согревает, утешает, обнадеживает. «След нагі на пясочку» — это же из песен белорусских, присущий народной песне образ. Он из книги? Из Шейна? Или из записей отца? Пусть. Но этот образ он видит перед собой, это образ родины — вербы, тихая зеркальная река и желтый песочек на берегу, на котором чуть влажные следы...
А как лучше — «старадаўнюю» или «старажытную»? Этo надо обработать. Рассудок уже взял верх над чувствами. Надо отложить. Чернила высохнут, чувства остынут, и тогда он посмотрит на свои стихи сторонним взглядом, взглядом читателя и критика. Он наделен такой счастливой способностью. И потому-то его стихи имеют законченную форму.
Новые книги, журналы, альманахи лежат перед ним. Он выбирает то, о чем напишет очередную рецензию в местную газету. Это его посильный заработок, который почти целиком уходит на те же книги. В двадцать пять лет надо было бы жить самостоятельно, зарабатывать не только на себя, но и на семью. Сколько раз возникали разговоры об этом! Однако такт Адама Егоровича, отца, сглаживал острые углы. Об этом будем думать, когда поправится, окрепнет здоровье...
Максим раскрывает книгу. Было время, когда он сильно увлекался символистами. Однако скоро он начал хорошо разбираться, где, начиналась у них настоящая поэзия, а где опускалась завеса перед бездной, в которой — пустота. Блока и особенно Брюсова он давно выделил из плеяды огулом окрещенных «декадентами» поэтов, выделил на том основании, что они вышли в мир подлинной жизни и подлинного искусства, а не остановились перед этой завесой. Увлечение Брюсова армянскими поэтами разделял и он, Максим. Но то, что он читал теперь, поразило его не только красотой формы и глубиной мысли, а чем-то еще большим.