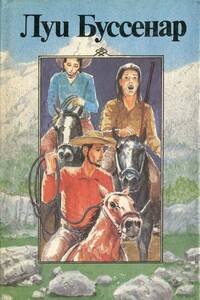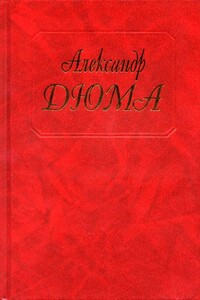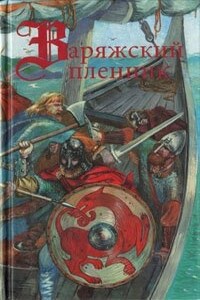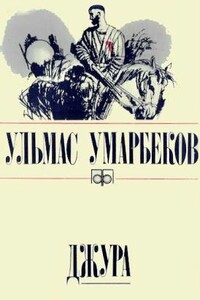Ведьмы | страница 37
2
Леля вынула из печи каравай, и был он ну ничуть не хуже, чем у бабушки: румяный, пышный, а уж запах… В другое бы время Леля и в ладошки заплескала бы и заскакала козой и нос задрала, а сегодня нет. Не в духе Леля. И мысли ее одолели, и чувства.
В героях ходил, конечно, Тумаш, кто ж еще? И вышло с ним все по воеводы Бусовым словам. На отвальном пиру оказал ему Брячко честь небывалую, пригласил вместе с дядей, с Дедятой за верхний стол, и Буслая гридю усадил рядом. По велению княжича принесли волхвы превеликую братину, наполнили ее зеленым вином, и над тою братиной принял княжич у молодцев обряд побратимства, а нож для кровь отворить воевода дал свой. Смешали молодцы кровь из левых рук над братиной, слили в зелено вино, и пили то вино все гриди. Так что не с одним Буслаем побратался Тумаш, со всею дружиною.
Леля накрыла каравай чистой холстиной, сбрызнула водицы. Пусть остывает. Сама же ухватилась за горшок, пора ставить в печь репу, чтобы поспела упреть к обеду. Руки все делали сами, что им – работа привычная, голова же была занята мыслями про Тумаша, про Ждана, козленка безрогого, который туда же, да и про себя мысли, чего уж там, про себя тоже. Вышло все ладно, по задуманному, высокое получилось волхебство и славная работа, а никому не расскажешь, и нет тебе за это ни почета, ни славы, пальцем на тебя никто не кажет и за спиною языком не цокает восхищенно.
Тумаша княжич у Дедяты в дружину просил-таки, отпусти, мол, сделай милость, хоть Бус и предупреждал, что ничего из того не получится. Дедята от гордости раздулся, важный сидел и все усы себе рукою гладил. Тумаша, однако, не отдал, сказал, что держит-де себе за восприемника в роду. А княжич, за то, что вырастил Дедята племянника таким молодцем, возгласил ему здравицу, и весь стол ту здравицу пил стоя, и волхвы тоже пили. Потом княжич повелел считать Дедяту не в дани, а в потуге, и от такой чести вся окрестная старши́на пришли в полное изумление, рты пораскрывали. И не в том дело, что потуг меньше дани, ничего он не меньше, а в том дело, что потужный муж не данный мужик, он человек самостоятельный. И на пирах его место в совете за верхним столом, и судить его может лишь княжий тиун, и обидеть его – князю-батюшке обиду нанести, и на вече его слово среди старши́ны. Да только ли в этом дело? За Дедятою вверх весь род тянется.
Бабушка отрезала от каравая кус хлеба, намазала сверху коровьим маслом. Предложила Леле, но Леля отмахнулась, до того ли, да и руки заняты, работа. Дел еще сколько? А есть сейчас бестолку, не ко времени, охотку только отобьешь, ни пользы, ни смысла и, вообще, ни к чему. А Ждан – ну, ни смех ли? – пыжится, пыжится, а сам похож на брата, как цыпленок на петуха: ручки-ножки тоненьки, носик остренький, голосом пискляв. Такому, скажем, на Оку идти за сторожей, испугается, заплачет: "Ой-ёй-ёй, боюсь!" А если и не заплачет, куда ему, и хилый, и маленький, и дурак, а Тумаш добрый молодец красивый и сильный. Бабушка ела хлеб и нахваливала Лелю, хочешь-не-хочешь, а услышишь: рукодельница ты моя, златорукая, да и хлеб, мол, у тебя небывалый, да и масло-де неслыханное, да и князь такого в тереме своем златоверхом не едал, а после прервала вдруг свои восхваления, ткнула в Лелю пальцем и сказала: