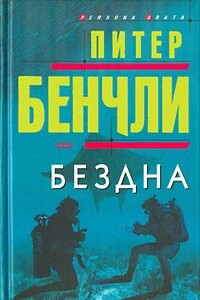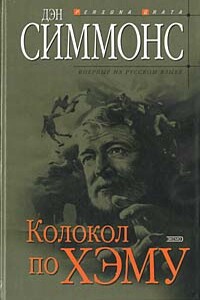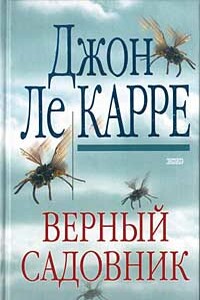Витгенштейн | страница 34
Однако очевидно, что Буцефал является неукротимым не таким же образом, каким тот же Буцефал является лошадью. В первом случае речь идет о вторичном свойстве, которым Буцефал может не обладать, оставаясь при этом лошадью; к тому же известно, что Александру Македонскому удалось его укротить! Напротив, тот факт, что Буцефал является лошадью, а не страусом или дождевым червем, по-видимому, характеризует его глубже. Мы признаем, что в первом случае имеем дело со случайным свойством, а во втором – с необходимым свойством. Следовательно, единичная субстанция обладает такими свойствами, без которых она не являлась бы тем, чем является, а также другими свойствами, которые данная субстанция может иметь или не иметь, что никак на ней не скажется! Так мы подходим к отличению сущности субстанции (того, что делает ее такой, какая она есть) от того, что является для нее случайным, то есть того, чем она может быть или не быть, оставаясь при этом тождественной себе.
Тогда в чем заключаются отношения между субстанцией и ее сущностью? Идет ли речь о тождестве? Но это означало бы, что связка выражает тождество. Что же выражает связка, когда мы имеем дело со случайной предикацией? Как различить два значения связки?
Подобные соображения приводят к представлению о субстанции как о мешке или коробке, в которой оказались заперты свойства, являющиеся самым «сокровенным», «глубинным», «внутренним», что у нее есть; тогда как на «видимой» поверхности она носит свойства, остающиеся внешними для нее, которые можно отделить от нее, не оказав никакого влияния на ее существование. Предикация, выражающая необходимые свойства, вводит нас в глубь субстанции, в то время как предикация, выражающая случайные свойства, не позволяет, так сказать, проникнуть в суть вещей. Как понимать такого рода метафоры, означают ли они что-либо вообще? Таков вопрос, мучивший умы великих философов на протяжении многих столетий.
Наконец, затронем последний узел проблем. Если назначение любого повествовательного предложения состоит в том, чтобы приписать субстанции или, если угодно, предмету свойство – случайное или необходимое, – то каким образом мы можем объяснить себе связи, существующие между этими самым субстанциями? В качестве примера возьмем одну из важнейших связей – причинно-следственную. Говоря, что А есть причина B, я хочу указать на наличие определенной связи между А и В. В аристотелевских терминах я должен буду переформулировать эту фразу, чтобы выявить подобную связь как свойство А или В, или обоих одновременно. Это приведет к следующим формулам: А есть причина В, или В есть следствие А. Поскольку речь идет о том, что «причина В» – это свойство А, возникает вопрос: необходимое это свойство или случайное? Предположим, что речь идет о необходимом, научно установленном свойстве. Это означает, что «в» А, «внутри» А, содержится некое подобие «(причинной) силы», под действием которой А обязательно предшествует В, или, если угодно, А не было бы А, если бы А не породило В. Из этого следует, что исчерпывающее знание об одной «причине» А должно привести к знанию о том, что А обладает силой породить В, и это знание возникает раньше констатации того, что В действительно было порождено.