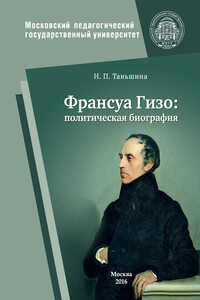Самодержавие и либерализм: эпоха Николая I и Луи-Филиппа Орлеанского | страница 45
Для практика характерна склонность к точным наукам, и в этом отношении Николай и Луи-Филипп не были исключениями, особенно российский император: он, проявляя соответствующие наклонности в годы ученичества, и затем искренне предавался своему увлечению инженерным делом. Оба обладали способностью к языкам. Явные недостатки в сфере гуманитарного знания не мешали Николаю разбираться в людях, а также быть человеком, компетентным в определенных сферах – военно-инженерном деле, градостроительстве, картографии, повседневном быте армии от уставов до униформы. Как отмечала Д.Х. Ливен, «я мало встречала людей, одаренных таким логическим положительным и практическим умом, как император»[121].
Практический склад ума и особенности характера приводили к тому, что Николай Павлович старался вникать во все дела. Требовательный к другим, он был наиболее строг к себе. Государь развивал неутомимую деятельность, будь то чтение отчетов и бумаг, которые он изучал от корки до корки, испещряя пометами карандашом на полулистах почтовой бумаги, а то и меньше, или смотры, ревизии, дальние поездки по российским дорогам, зарубежные вояжи. «Деятельность его, и физическая и моральная, всегда превосходила, казалось, силы обыкновенных людей», – писал барон М.А. Корф. Он не любил «тунеядцев» – слово, характерное для его лексикона[122].
Подобно Петру, на которого Николай Павлович искренне пытался походить, он старался научиться делать все, вплоть до того, что самонадеянно пытался управлять большим парусным судном нестандартных габаритов «Россия», построенным с некоторыми изменениями в плане по высочайшей воле.
Что касается стиля правления самодержца Николая Павловича и конституционного короля Луи-Филиппа, то ничего общего, на первый взгляд, быть не могло. Однако первое впечатление обманчиво. Конечно, Николай Павлович, абсолютный монарх, был главным распорядителем, устроителем и вершителем судеб в империи. Как в свое время написал князь Клеменс фон Меттерних своему посланнику в Петербурге графу К.-Л. Фикельмону, «когда говорят о России, то при этом говорят об императоре Николае»[123]. По словам другого иностранца, художника Ораса Верне, император «хочет непременно сам вникать в малейшие подробности всего, что происходит в его империи»[124].
Кроме того, людей, на которых он мог бы опереться и которые могли бы принимать самостоятельные решения, в его окружении не было. Как писал граф Оттон де Брэ, советник баварского посольства (1833–1835), а затем баварский посланник в Петербурге (1843–1859), «все государственные сановники в глазах этого монарха» «являются исполнителями его воли и орудиями его администрации и политики». Государь «охотно принимает советы тогда, когда спрашивает», но «по своему характеру почти недоступен постороннему влиянию». По словам дипломата, «Николай до такой степени преисполнен сознанием своей власти, что ему трудно представить себе, чтобы какие бы то ни было люди или события могли оказать ему сопротивление. Быть приближенным к такому монарху равносильно необходимости отказаться, до известной степени, от своей собственной личности, от своего я и усвоить себе известный облик»