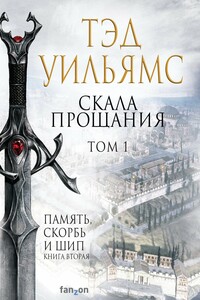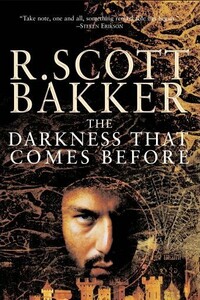Великая Ордалия | страница 29
Конец всему.
Он теряет все. Харвила, своего младшего брата, его теплую руку в своей мозолистой ладони. Теряет свое наследство, свой народ. Образ его крив и непристоен. Теряет бдение рядом с Цоронгой в меркнущем свете, когда они слушали Оботегву, забывая дышать. Сверкающую расселину. Теряет видение шранколикой Богини, выковыривавшей когтем грязь из своего лона. И бахвальство – этот звериный жар! Вой, сделавшийся невыносимым. Крик Порспариана, бросившегося горлом на копье. И припадок блаженства! Свирепого от… напряженного от… разделенного. И то, как он съеживался и молил, охватив Эскелеса, когда их окружила жуткая масса нечеловеческих лиц.
Потоки горячего семени, просачивающиеся через тиски его стыда. Его отец, машущий руками, как сердитый гусь в огне.
Его мать – серая как камень.
Его семя! Его народ! Запах дерьма… дерьма… дерьма…
Убью-позволь-мне-убить…
Он стоял на коленях, согнувшись, раскачиваясь, словно собираясь извергнуть блевотину. И не понимал почти ничего, совсем ничего из происходящего – абсолютно ничего. Рыдания, исходившие из его груди, ему не принадлежали. Более не принадлежали…
Доказательство.
Она смотрела на него сверху вниз, холодная и безразличная.
– Кто? – повторил он дрогнувшим голосом.
– Люби нас… – сказала она, отворачиваясь от жалкого зрелища. – Если должен.
Он скрючился под могучим дубом, припав к его жесткой коре, все более и более заворачиваясь в неразборчивое рычание. Однако голос ее все теребил и теребил его…
Я подчинила его!
Смятение.
Что еще ты хочешь, чтобы я сделала? То, чем я покоряла нелюдей, сработает и на нем. Он любит нас.
Голос ее брата трудно было разобрать за тем рычанием, в которое он был погружен.
Отец недооценил глубину его раны.
Она не значила ничего – чистота ее проклятого голоса.
Наш отец ошибается намного больше, чем ведомо тебе… Мир превосходит его, как и нас, как и всех остальных…
Он ничего этого не понял…
Он просто переносит битву в большие глубины.
Мир раскачивался и плыл по спиралям, теплый и медленный.
Лицо мое под твоим лицом… замолчи и увидишь…
Мать напевала и гладила его. Омывала собственными руками.
Ш-ш-ш…
Ш-ш-ш, мой милый.
– Мама?
Вечность обитает внутри тебя. Сила, неотличимая от того, что происходит…
– Я безумен? – спрашивает он.
Безумен…
И очень свят.
– С квуйя, – говорила Серва, – нельзя позволять себе вольностей.
Сорвил сидел и, не обращая внимания на обрыв прямо перед собой, смотрел на запад опухшими глазами. После пережитого позора и унижения, пока она спала, а угрюмый Моэнгхус бродил по внутреннему островку, он заполз в наполненную водой рытвину и отмылся. Должно быть, целую стражу он плавал над древней черной водой, онемев от холода, прислушиваясь к хлюпанью собственных движений, звуку собственного дыхания. Ни одна мысль не посетила его. Теперь, с мокрыми волосами, в промокших насквозь штанах, он тупо уставился на видневшийся вдалеке пункт их назначения. Он торчал над ровной стороной горизонта – силуэт, лишь чуть более темный, чем фиолетовое небо над ним: гора, севшая на мель посреди вырезанной в камне равнины.