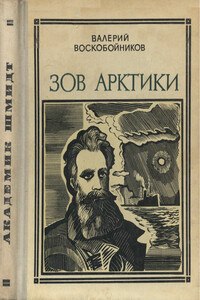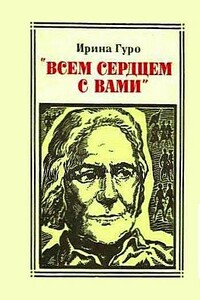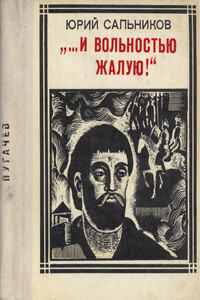Битва на поле Куликовом | страница 5
Кричат бояре, перебивают друг друга, лица раскраснелись, пот по щекам течет, бороды разлохматились.
«И чего они расшумелись? — думает Дмитрий, не вникая в речи боярские. — Скучно… Поиграть бы с братьями. Или по двору побегать, тонкий ледок подавить на лужах сапожками».
Все шумят бояре, только митрополит тих, задумчив. Скучно Дмитрию. Ан муха! Села тысяцкому Вельяминову на красный широкий нос, перелетела на лоб… Вон как головой боярин крутит! Смешно княжичу.
Чу! Прислушался Дмитрий, похоже, конь скачет, часто бьют копыта по земле. Остановился, заржал призывно.
Хочется, сил нет как хочется князю московскому Дмитрию выбежать на улицу, поглядеть: кто же это прискакал?
Но вот чьи-то спешные шаги за дверями дубовыми. Кто-то идет к Думной. Открывается дверь…
— Ты что? — в изумлении приподнялся со своего места один из бояр, обращаясь к человеку, появившемуся в дверях. То был его тиун, управитель двора боярского, что стоял верстах в тридцати от Москвы.
Тиун в поклоне распластался по полу.
— Вели ему, князь Дмитрий Иванович, слово молвить, — сказал, повернувшись к княжичу, митрополит Алексий.
— Велю тебе, говори! — произнес мальчик и смутился от непривычки повелевать: щеки заалели.
— Боярин светлый, Михаил Юрьевич, спалили смерды[1] твой двор… — И снова тиун согнулся, словно подставил спину под удар плети: недоглядел, мол, виноват.
Смотрит на слугу своего боярин, ртом жадно воздух хватает, руки ворот от шеи рвут: дышать нечем. Багровеет лицо — знать, вся кровь к нему хлынула. А тиун продолжает дальше сдавленным от страха голосом:
— Оброк собирали. Известное дело, осень, урожай поспел. Рожь брали, ярь, ячмень, овес, просо… Все брали, что положено. Да стали вдруг смерды кричать, что лишнее берем, не по закону, не так, как с отцов и дедов брали. Тут выступил вперед Тришка Миньков, смутьян известный: «Отвези, — кричит, — к боярину на московский двор шкуру мою! Обдери меня и вези! Может, он и ее на торгу московском вместе с житом повелит продать, пусть богатеет!» — Перевел дух тиун и дальше сказывает: — На коне я был, в руках кнут… Не стерпел, полоснул Тришку по широкой груди. А немного погодя, боярин, пламя над твоим двором поднялось до самого неба. И мое добро погорело. Стали смердов считать: кто тут, кого нету, чтоб понять, чьих это рук дело. Тришка и Фетка сбежали. Знать, они виновны.
Опять тиун лежит пластом на полу перед боярином: и смерть принять готов, и повеление, что дальше делать.