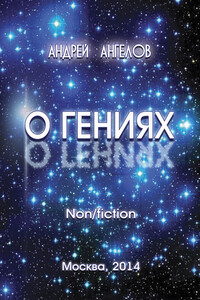В кругу Леонида Леонова. Из записок 1968-1988-х годов | страница 94
Заговорили о Шолохове.
— Мне кажется, мы с ним очень разные. Может быть, вы правы, в чем-то даже противоположные. Почему-то у нас никогда не происходит настоящего разговора. Несколько раз виделись в больнице. Он прост, разговорчив.
— Здравствуй!
— Здравствуй!
— Как живешь?
— Хорошо.
— Пишется?
— С трудом.
— Мне тоже. С невероятным трудом.
Вот самый длинный наш разговор. Я не верил, что он сыграл определенную роль в избрании меня в Академию наук.
Говорили о Храпченко, Лихачеве, Сучкове. Выслушав меня, он вздохнул:
— Ничего-то я не понимаю в людях. Зачем они хитрят, молчат, прикрываются дорогими для нас с вами словами?
— Не знаю.
— Когда ко мне приехал Храпченко, чтобы уговорить или, может быть, проверить, соглашусь ли я сделать доклад о Достоевском, я ему ответил: «Начну с утверждения, что Достоевский — наш национальный Бог!» Он даже икнул, а я по лицу понял, что отныне вопрос о том, чтобы доклад сделал кто-либо другой, решен. Но я даже рад, что доклад мне не доверили, а то бы я сломался. Укатил на дни торжеств в Румынию.
— Жаль, что не доверили. Все мы помним ваш доклад о Горьком, когда тишина была такая в зале, что ничего подобного за свою жизнь я не встречал. Вас слушали, как оракула, как глашатая. Вам об этом, конечно, говорили? Моя семья испытала потрясение от вашего «Слова о Горьком».
Перед уходом я посмотрел несколько перепечатанных на машинке страниц из нового романа. Пока Л.М. беседовал с М. Бабовичем, я сидел у письменного стола. Стоит машинка «Эрика», много исписанных карандашом, фиолетовыми чернилами листов. Отпечатанные длинные листы Л.М. правит черным фломастером. Почерк у него, в отличие от шолоховского, непонятен совершенно.
— Л.М., давайте роман, напечатаем без единой поправки в «Новом мире».
— Нет, не надо.
— Леня! — сказала Татьяна Михайловна. — Отчего же? Дай хотя бы отрывок.
— Нет. Пока жив, печатать не буду. Надо многое переписать. Некоторые части имеют несколько редакций.
— Вот поэтому произведение пора свести в единое целое, чтобы увидел сам автор, как соединены все опоры.
— Нет, пусть остается в таком виде... Сочинительство — профессиональное мастерство, не хочу быть на уровне подмастерья, возраст не позволяет. А писатель — это больше: поэт, пророк. Я не лезу так высоко.
19 декабря 1977 г.
Позвонил Леонид Максимович:
— Знаете, все-таки напрасно мы напечатали «Соррентийскую правду». Не литература это. Да и не предназначалась для печатного станка.
— Согласен. Однако, после долгих колебаний, я решился включить эти писания в том «Вариантов», чтобы не давать пищу для легенд, распространяемых некоторыми у нас и на Западе, будто мы что-то скрываем.