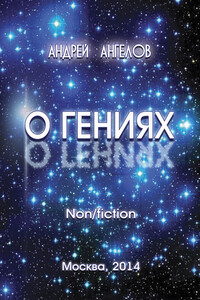В кругу Леонида Леонова. Из записок 1968-1988-х годов | страница 77
— Обойдетесь без дачи.
— Но почему нельзя печатать?
— Потому, что повесть ниже вашего таланта.
Я шел от него, плакал, но повесть и до сих пор лежит у меня в шкафу ненапечатанная (из нее потом я сделал пьесу об Унтиловске).
О прямых изображениях. Не всегда они уместны, я например, доказывал мхатовцам, что не надо давать прямое изображение восстания барсуков, для чего потребуется выпустить на сцену 100 человек. А я говорил: «Давайте, я дам его отражение, ну, скажем, вот в этой бутылке». А они: «Нет, давай прямо!» Они настояли.
Удивительно картинно изобразил, как в 30-х годах шел пароход с писателями, по Беломорско-Балтийскому каналу. На столах угощение, играл оркестр, живописный дирижер... Махал руками, повернувшись задом к берегам, по которым стояли вот такие мужики, опустив руки ниже колен, перевоспитавшиеся строители-колонисты. Я спросил Погребинского, кто этот дирижер, он ответил: «А, румынский шпион!».
Столь же ярко рассказал, как с Горьким смотрел концерт болшев- цев. Они исполняли песню «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Сзади стояли два тенора и заливались: «Наша сила, наша власть!» Горький, разглаживая усы, говорил: «Здорово!» Меня же привлекли тенора. «Кто такие?» Тот же Погребинский ответил: «Фальшивомонетчики!» Знаете, я больше всего не люблю вот таких, которые «артековцы». Иногда детей привлекают.
Это всегда разложение. Такими голосами они произносят приветствие съездам, подносят цветы на торжественных заседаниях... Ведь все это погибшие люди.
— А.И., а вы знаете, что мне сказала баба Ванга? Она сказала: «Сейчас из всех писателей вам самый близкий Горький».
— И я так думаю... Ведь вы спорите с ним каждый день. Скажите, потому, что при жизни его то ли не успели, то ли не смогли поспорить?
— Да, это удивительно. Как будто умершие не ушли, воспринимаешь их, как живых... А будем мы печатать его письмо Марии Игнатьевне? Давайте напечатаем. В нем он весь. А знаете, однажды, сидя рядом с М.И., я допустил ужасную бестактность. Я сказал: «Хотелось бы знать, все это у вас естественное или сделанное?» Она засмеялась и сгладила бестактность. Но потом я убедился, что все было сделанное, что она была ужасно холодным и рассчетливым человеком. Горький сердился, когда приехал Уэллс. Они очень спорили. Уэллс говорил дерзкие вещи. А Крючков предупредил меня, чтобы я не проговорился, что М.И. была здесь...
Потом говорили об Островском, о его удивительном языке. В пьесе камердинер докладывает: