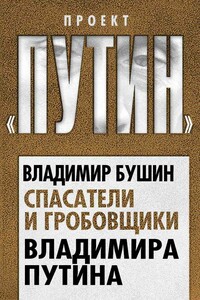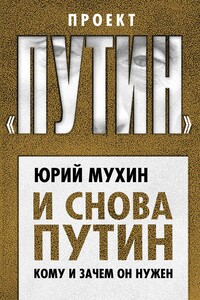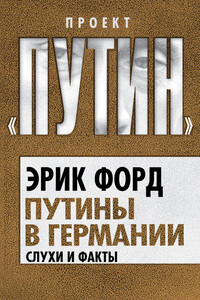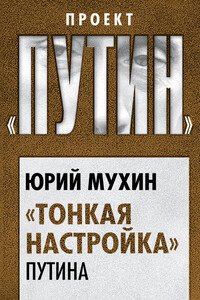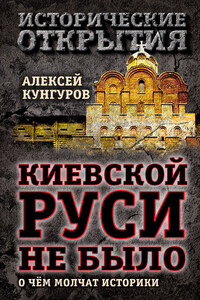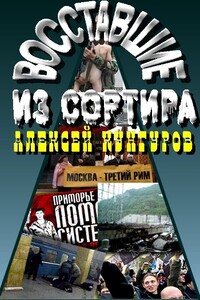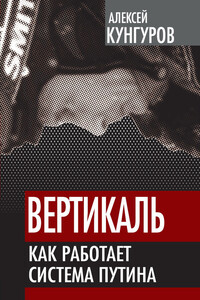Конец эпохи Путина. Записки политолога | страница 37
Русские элитарии остро чувствовали свою неполноценность по отношению к своим европейским собратьям по классу: они не могли позволить себе дворцы, коллекции предметов искусства, шикарные наряды и праздную жизнь. Это могли позволить себе лишь единицы, а в целом русская аристократия оставалась по западным меркам нищей. Экономика оставалась низкопродуктивной, не способной дать достаточно добавочного продукта на излишества, но не все это понимали. Многие искренне верили, что все дело в неких неправильных порядках. Стоит, дескать, их заменить на правильные — и жизнь волшебным образом сразу станет такой же вольной и сытой, как в европах.
Установление в России капиталистических отношений привело к окончательному дисбалансу в общественном организме. Впервые возникла ситуация, когда собственность стала приобретаться не через службу, а помимо ее, не как милость от государства, а как результат собственных усилий. Впервые в России собственники приобрели самодостаточность.
Тут надо кое-что уточнить по поводу купцов. Да, существовало в феодальной России такое сословие. Но преувеличивать его значение не стоит. В 1775 г., когда была осуществлена реформа, согласно которой купечество делилось на три гильдии, всего в «третье сословие» записалось ничтожное количество — 27 тысяч человек. При этом следует учитывать, что купцы самой многочисленной третьей гильдии — это, в нашем сегодняшнем понимании, вообще не купцы. Они занимались ремеслами, мелочной торговлей (про коробейников слыхали?), содержали трактиры, постоялые дворы и даже работали по найму. Примерно тем же самым занимались и так называемые торгующие крестьяне — была такая сословная группа, которой разрешалось селиться и работать в городах. Купцами первой гильдии являлись лишь 2–3 % от всей численности сословия, но и они не все занимались торговлей по причине отсутствия капиталов. При этом совершенно немыслимо представить, что купечество имеет хоть какое-то влияние на власть. Оно в подавляющей массе было столь же бесправно и далеко от власти, как мещане и крестьяне. Купцов третьей гильдии можно было пороть, они несли рекрутскую повинность.
Итак, в пореформенной России появилась буржуазия, которая вроде бы была частью элиты, однако не имела власти. Не существовало в России институционализированных инструментов влияния «крезов» на государство, как то свободная печать, политические партии, парламент и т. д. Между тем концентрация ресурсов в руках этой группы возрастала, именно эта группа впервые смогла позволить себе европейский уровень потребления. Внутри элиты вновь принципиально обострилось противоречие по вопросу роли собственности во власти. Предыдущее обострение такого рода разрешилось с помощью опричнины в пользу власти, тысячи собственников, много возомнивших о себе, были уничтожены физически.