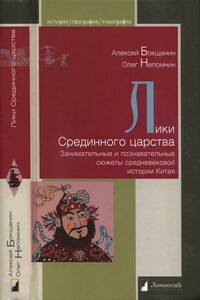Китай и страны Южных морей в XIV–XVI вв. | страница 74
Кроме того, перед отъездом Сявану были вновь даны богатейшие подарки: 100 лян золота (3,73 кг), 3000 лян серебра (111,9 кг), ассигнации, дорогие ткани, посуда и т. д.[349]. Все остальные члены посольства также получили подарки.
Отвезти упомянутую стелу и водрузить ее на удостоенной чести горе поручалось дворцовому евнуху Чжан Цяню и посланцу Чжоу Кану, которые были направлены сопровождать властителя Бони на обратном пути. Есть основания предполагать, что по просьбе Сявана с ними были посланы китайские войска. Дело в том, что Чжан Цянь, выехав вместе с Сяваном из Китая в самом конце 1408 г., вернулся из Бони в 1410 г. Он пробыл там чуть больше года, т. е. в течение того времени, пока китайские войска должны были находиться в той стране. Если даже это не был специально направленный в Бони гарнизон, нет сомнения, что Чжан Цяня должен был сопровождать внушительный военный отряд. Это также является ярким свидетельством активизации политики Китая в странах Южных морей в начале XV в. и подтверждает стремление китайского правительства добиться действенности своих «сюзеренных» прав.
С Чжан Цянем прибыл в Китай посол от Сявана с данью. В ответ на это в 1411 г. Чжан Цянь был снова направлен в Бони с подарками вану — 120 отрезами тканей. А в конце 1412 г. Ся-ван вновь прибыл в Китай, на этот раз в сопровождении своей матери. Снова в его честь устраивались приемы и многочисленные банкеты, а при отъезде (1413 г.) ему было даровано много золота, серебра, медных денег, ассигнаций, одежд, тканей, посуды. Страна Бони поддерживала тесные связи с Китаем до 1425 г., после чего, как сказано в «Мин ши», посольства оттуда стали прибывать все реже[350].
Примерно аналогичную картину — завязывание посольских связей с Китаем и признание его сюзеренитета с целью добиться независимости от соседней страны — мы наблюдаем и на примере отношений с Малаккой, правители которой в начале XV в. не раз бывали при императорском дворе. Основание султаната Малакка относится к 1400–1402 гг., когда сюда переселился из Тумасика (Сингапура) один из отпрысков царствующего дома ранее могущественной суматринской империи Шривиджайя Парамешвара. Поселение быстро росло благодаря своему выгодному положению на основном торговом пути из стран Южных морей в Индийский океан. Первоначально Малакка находилась в зависимости от Сиама и выплачивала ему ежегодную дань в 40 лян золота