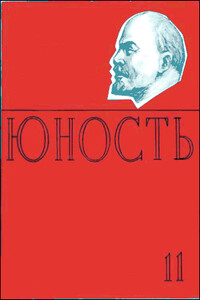Пятеро на леднике | страница 24
Мика увидел белую женщину.
Он сидит, уткнувшись лицом в руки. Он делает вид, что протирает очки… Но он не может смотреть на мир. Он боится опять увидеть белую женщину. Что же с ним делать? И тут я замечаю, что он оставил ледоруб за щелью, на краю карниза.
— Какого черта ты оставил ледоруб?! — говорю я зверским голосом. — Что у нас, склад ледорубов?
— Ну и что ж… ледоруб, — бормочет Мика. — Я не пойду за ним. Что ж…
Он, видно, еще не вышел из своего транса.
— Что значит «что ж»! Ты понимаешь, какую чушь ты говоришь? Без ледоруба можешь писать завещание!
— Я чуть не погиб, а ты ругаешься! — вдруг огрызается Мика и встает.
— Не совался бы вперед!
— Ну а что, что теперь делать?
— Садись, упирайся ногами, держи веревку, я полезу.
Мика держит старательно, я ползу… Снег мириадами искринок играет перед глазами, слипается, громоздится перед лицом.
Я выкидываю руку со своим ледорубом вперед и цепляю за ремешок… Тащу… Вытянул. Отползаю обратно и сажусь рядом с Микой.
Обратно идем тем же гребнем, по своим следам. Спускаемся по обмерзающим уже валунам, скользким, как бильярдные шары. Ступаем на сумеречный снег ледника.
Мика вдруг становится разговорчив. Он говорит об аде, который открылся нам, о мощи природы и даже о снежном человеке. Я знаю это по себе: сейчас страх прошел и наступил стыд, который, может быть, еще мучительнее страха. В горах проходишь через это, и не только через это.
— Смотри, смотри, какое солнце — прямо паровозная топка! — говорит он восторженно.
Чем ближе мы к палатке, тем болтливее он становится.
— Вот это жизнь, старик! Мы побывали в космосе, а!
Он говорит о космосе, о летающих тарелочках, но не говорит главного, что мучает его, как дурная болезнь.
Вот уже и палатка показалась. Он садится и начинает долго перешнуровывать ботинок без всякой надобности. Он опять что-то говорит, но лицо у него как у приговоренного к казни. Опять надо ему помочь.
— Да, брат, натерпелись мы! — говорю я как бы между прочим и даже позевываю, чтобы слова казались обыденными.
Мика перестает шнуровать «триконь» и просит, не глядя на меня:
— Знаешь… ты не говори им об этом.
Мы приходим в палатку, когда там уже зажжен огонь. Все встречают нас с такой радостью, точно мы явились с того света.
За ужином Александр Дмитриевич спрашивает, как прошел маршрут. Мы начинаем рассказывать, и Мика вдруг принимается расписывать наш переход в «романтическом» плане. Оказывается, он шел впереди и поэтому чуть не погиб. Появилась в его рассказе и какая-то лавина, которая вынесла нас на карниз. За такое вранье следовало бы дать по шее, но что поделаешь с поэтом!