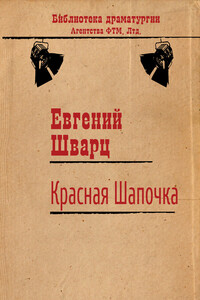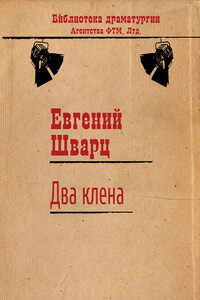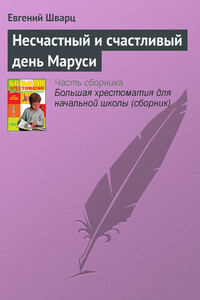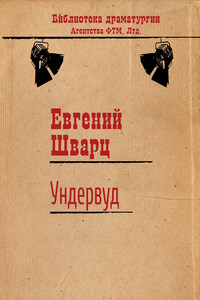Мемуары | страница 15
Хотя среди эпитетов и встречаются экстравагантные ассоциативные в духе Набокова — Олеши (пастушеский звук трубы стрелочника; влажный голос моторного вагона; картонажное, игрушечное счастье), но в основном эпитеты становятся инструментами психологического анализа, т. е. выбираются тщательно, чтобы зафиксировать еще одно вычлененное психологическое качество. Такова функция и простых эпитетов типа /боксом занимался/ пристально, рассудительно, и синестетических — /женщина/ доброжелательная, сырая, и метафорических — добротная /репутация/ (т. е. как прочная и надежная ткань, которую принято называть добротной).
Та объективность, которой подчеркнуто придерживается автор при изображении наиболее субъективных своих переживаний, приводит к некоторому перераспределению акцентов, падающих на привычные эпитеты, по сравнению с бытовой речью. Так, любуясь Чуковским или Житковым, Шварц не забывает упомянуть толстые губы одного и мутные глаза другого (как это бывало в описаниях у Толстого, эпитеты теряют здесь свойственный им слегка негативный характер). То же в эпизоде с обиженной девушкой — проводницей — упоминается ее кукольно — бессмысленная мордочка. Хотя такое употребление очевидно напоминает Толстого и Чехова, сам писатель указывает, что не все из чеховского наследия принималось в его кругу. Вспомним возмущение Житкова чеховским оборотом офицер в белом кителе:
Эта чеховская фраза, видимо, возмущала Бориса тем, что используется готовое представление. Писатель обращается к уже существующему опыту, к читательскому опыту. А все общее, как бы общеобязательное, утверждаемое или утвержденное всеми, бралось Борисом наподозрение…
— мы видим, что Шварц исповедует те же принципы, что и Житков.
Каламбур, которым так блистал Шварц в своих пьесах и бытовой речи, в этой прозе, с ее точностью найденных или восстановленных словесных значений, выглядел бы чужеродно (что и происходит в том месте, где каламбур все же проскальзывает, о художниках в «Печатном дворе»: хотя и не графы, а графики). Сам автор очень ясно излагает систему «русского юмора», культивировавшуюся в среде обэриутов.
Иронизируя, Шварц не нуждается теперь в резких контрастах, ему достаточно легкого грамматического нажима, чтобы достичь иронического эффекта. Вот он пересказывает письмо Чуковского А. Н. Толстому, лидеру начавшегося в то время коллаборационистского движения в русской эмиграции, названного (по названию сборника статей) «смена вех»: