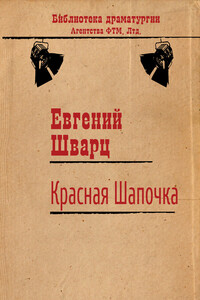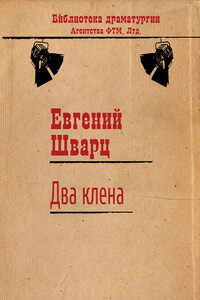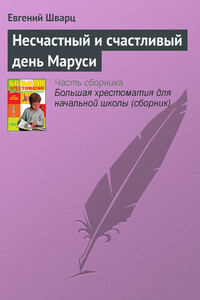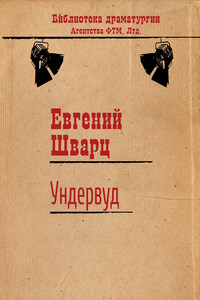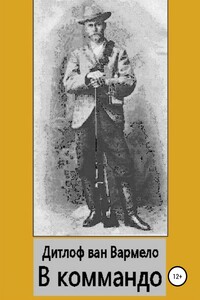Мемуары | страница 12
Как водится, оппозиция зрела в недрах самого движения. Шварц описывает Лебедева лукаво, во многом приемами, адекватными лебедевским в живописи и графике, создавая иллюзорную реальность из мастерски наблюденных деталей. И почти без паузы он переходит к не менее восхищенному рассказу о мастерстве наборщика. В самом плотном соседстве этих двух фигур скрыта разоблачительная метафора: как ни искусен наборщик, но он может составлять только чужой текст из набора свинцовых литер; не есть ли и мастерская работа Лебедева (как и его литературных двойников) лишь мастерское исполнение чужого текста? И чтобы у читателя не оставалось сомнений по поводу сомнений автора, он прибавляет еще анкедот — притчу о попугае, который умел (мастерски, артистично) кричать «Радость моя!» и вопил эту фразу восхищения, когда кошка тащила его за хвост из клетки.
Но чего же лишается художник в результате установки на чистый артистизм? Шварц выносит ответ на этот вопрос в самый конец рассказа, под ударение: возможности сказать всё. К этому моменту мы уже способны понять, что автор имеет в виду под этим «всё». Ведь в рассказе, с самого начала, звучала и другая тема: боязнь спугнуть нечто очень глубинное, связанное с самыми ранними детскими воспоминаниями. «Всё» — это полное самовыражение, но включающее в себя и моральный суд художника над явлениями жизни (ересь с точки зрения чистого артистизма).
Внешне мягкая манера Шварца слегка вуалирует ту решительность, с которой он восстанавливает право морали на место в русской литературе. Он неспроста берет самые традиционные, скомпрометированные по мнению литераторов 1920–1930‑х гг. темы для утверждения своей истины. Таково, например, присутствие нищих в его рассказах.
Нищие были символом сентиментальной пошлости для писателей 1920‑х, бард которых пел: «Мы разучились нищим подавать…» Нищий как символ несчастья, как объект литературного сострадания был изгнан из литературы (изгнание это началось еще на страницах прозы Горького). Зато нищий как некий идеал свободы от социальной или моральной регламентации занимает у литераторов этой поры видное место (что тоже можно возвести к Горькому). У Платонова почти все герои нищие. Образ нищего постоянно, всю жизнь, занимал Олешу и Зощенко. В исповедальных вещах («Ни дня без строчки», «Перед восходом солнца») оба признаются, что этот образ владел их сознанием, пугая Зощенко, маня Олешу (который в конце своих дней и превратился в московского нищего). Превращение в нищего — вот путь «чистого художника» Кавалерова. Подлинный нищий, просящий подаяния, мог в этой литературе быть только объектом иронического описания, демонстрации изобразительного мастерства, как у Бабеля, как у Ильфа и Петрова («Дай миллион, дай миллион…») и у многих других.