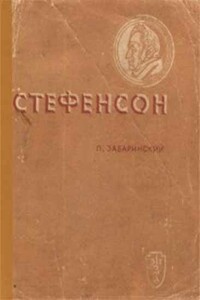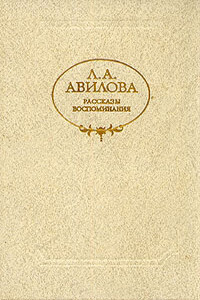Черные воды Васюгана | страница 35
Это означало, что нужно было искать новый рынок для обмена, и здесь имелось два варианта. Не так далеко, на Васюгане, вниз по реке находилась деревня Маломуромка, а дальше на запад лежала деревня Теврис. Первый вариант решено было исключить, поскольку люди в Маломуромке так же нуждались, как и мы. Наших товарищей по несчастью, которые в результате депортации там оказались, постигла столь же печальная участь. О Теврисе те, кто там побывал, говорили, что если уж не картошку, то молоко приобрести там возможно.
И вот из старого мешка, к двум краям которого я привязал веревку, у меня получился настоящий рюкзак, в него я уложил пуловер, полотенце, стеклянный графин с пробкой и отправился в путь, сопровождаемый наилучшими пожеланиями мамы. Была зима, умеренный мороз, градусов 15. Дорога шла сначала вдоль речки Ипалин-Игай, потом прямо по замерзшей реке и, наконец, петляя, вела через тайгу. Двадцать километров пути я преодолел в хорошем темпе, и вот уже показались дома большой деревни.
Тут я начал думать, что можно успешнее обменять — полотенце или пуловер, и стоит ли мне в графин брать молоко. В делах обмена я уже прошел хорошую школу. Закон спроса и предложения здесь не имел смысла. В этой общественной формации царили совсем другие порядки и обычаи. Прежде всего, нужно было соблюдать повседневный крестьянский этикет: открывать дверь в дом и сразу предлагать товар являлось непростительной ошибкой. Напротив, торговле должна была предшествовать своего рода прелюдия из пустых разговоров о том, о сем до тех пор, пока не наступал момент перейти к делу.
Таким образом я обратился уже в три дома, но когда после долгих «то да се», наконец, переходил к сути дела, я слышал только угрюмое «Мне не нужно!» В четвертом доме я тоже получил отказ, но, заметив, с какой жадностью крестьянка взглянула на пуловер, я продолжил «пустые разговоры». Еще раз обстоятельно обсудили погоду, и когда я, опираясь на безошибочные признаки, заявил, что лето будет теплым и влажным, и потому можно надеяться на хороший урожай, а крестьянка сказала несколько банальных слов про своего маленького сынишку, который вертелся тут же, то мы, в конце концов, пришли к соглашению. Обеднев на один пуловер, но с графином, полным молока, я зашагал домой.
Вот уже стало видно упавшее дерево — треть дороги позади! Здесь раздвоенная береза — значит, недалеко до реки. По гладкому, слегка припорошенному льду удавалось идти быстрее. Между тем становилось темно. Мороз крепчал, и снег зловеще скрипел под моими ногами. Но за молоко я не волновался — постоянная тряска защищала его от замерзания. Скоро тропинка вывела меня на ровный берег, и через полчаса я был дома. (Могу ли я про бедную лачугу, в которой мы жили, говорить «дом»?) Немного усталый, но довольный я вытащил графин из рюкзака и держал его в руках. При взгляде на молоко измученное, сморщенное мамино лицо просветлело, тень улыбки скользнула на ее высохших губах. Она схватила графин, и. хрясь! — он выскользнул из ее дрожащих, слабых рук. Из-за влаги, которая в теплой комнате образовалась на стенках графина, он сделался скользким. Я никогда не забуду эту картину: комната, слабо освещенная керосиновой лампой; голые стены, грубо отесанный стол, сколоченный из сырых досок; пол, усыпанный осколками, залитый молоком, и обезумевшее лицо моей матери. Никто из нас не мог сказать ни слова; Мы смотрели друг на друга и молчали. Любимая моя, добрая мама! Что ты пережила тогда! «Кто со слезами хлеб свой никогда не ел...»; но был ли у нас хлеб, чтобы мочить его слезами? Здесь память мне изменяет, но думаю, что паек в то время мы еще получали.