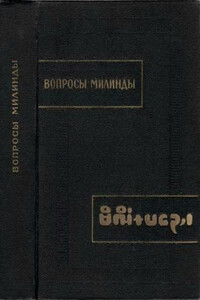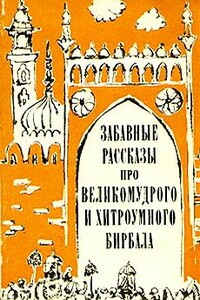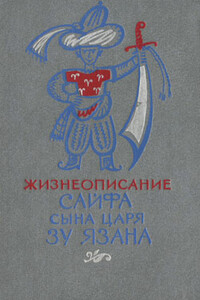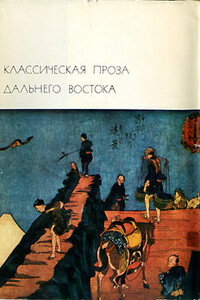Заметки из хижины "Великое в малом" | страница 54
По прочтении рассказов Цзи Юня создается то же впечатление двуплановой конструкции, какое отмечал акад. Я. Прушек для произведений жанра хуабэнь: сочетание индивидуального, исторически уникального и типического, повторяющегося; но если в хуабэнь это впечатление создается за счет того, что «документальность» сведений о герое, привязанность персонажа к определенному времени и месту действия сочетаются с лирическими вставками — стихами, носящими общий характер и «поднимающими реальность в метафизический, вечный и поэтический план»[110], то в большинстве рассказов Цзи Юня, где даются варианты повторяющихся типов человеческого поведения, общее (концепция мира и места в нем человека) сталкивается с частным (конкретным персонажем, отличающимся от другого не столько поведением, сколько социальным положением, местом и временем действия — конкретными деталями).
Язык рассказов Цзи Юня лаконичный, точный и простой. Диалог скуден, и речь персонажей индивидуально не окрашена и не служит средством характеристики персонажей. Думается, что отсутствие характеристик персонажей через диалог, как и отсутствие психологических характеристик, не только связано со спецификой избранного Цзи Юнем жанра короткого рассказа, но — и это главное — является принципиальной установкой писателя-рационалиста, возражавшего против изображения писателем того, что «посторонний человек... не может знать» (№ 1193); восхищавшегося авторами древних рассказов — Тао Юань-мином, Лю Цзин-шу, Лю И-цином — за то, что они «были немногословны, их стиль был прост и чист, естествен и возвышен»; стремившегося подражать им: «...моя цель — не отличаться от них по стилю и по духу» (предисловие автора к четвертому сборнику).
В этой связи большой интерес представляет высказывание Шэн Ши-яня, ученика Цзи Юня, в его послесловии к сборнику «Не принимайте всерьез»:
«Когда-то я сказал, что хотя книги учителя и относятся к категории сяошо, но смысл их заключается в «похвалах и порицаниях», там нет ни одного неклассического слова, и это знают все. Что же до установления [нравственных] принципов, проникновения в тонкости, использования мыслей древних, то все это имеется в полной мере, свидетельствуя о его учености...
Чем отличаются книги учителя от