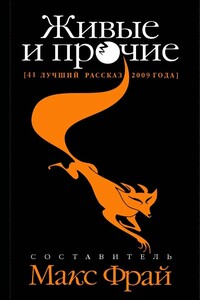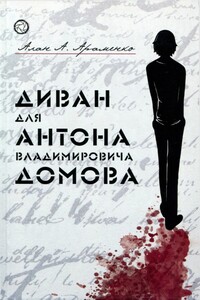Подсолнух и яблоки | страница 26
Не должен был бы по всему — но вот ведь. А я потом так и не утешился. С кем потом, как говорится, ноги не сплетал — все не то. И не в том даже дело, как один для другого в любви старается… Просто раньше я и не думал, что может быть что-то еще, кроме тела и желания. Как будто оно в мне было, это что-то, а я и понятия не имел… Как будто я через тебя до этого невидимого дотронулся, но что с этим делать — не знал. И никто не знал, кроме тебя. Такая от этого всего тоска, знаешь… Никогда раньше со мной такого не было. Да я ведь с самого начала понимал, что ненадолго, и каждый раз думал: ну, пусть не в последний… Но потому, наверное, и расстались спокойно с виду — что я понимал, ненадолго это все. Разошлись, а сердце-то болит. Не хватает ему тебя, твоего ясного света.
И кому он, тот свет достался — это надо же, китайчонку тому, черному как ночь. Ну ладно бы, я бы еще понял, что ты от этого мрачного типа ко мне сбежал, но почему вернулся от меня — к нему? А мне только приятелем и был. Другом, так ты сам сказал, когда прощались, но знаешь, Лус, после того как любил тебя… вся эта дружба — это как морскую воду пить, когда от жажды подыхаешь: глоток сделал, и все, сил нет больше, а горло все так же жжет… А совсем тебя не видеть, отказаться — не мог я, слаб оказался. Может, лучше было бы, если бы ты сам меня бросил и не встречался уже никогда, но тогда это был бы не ты. Потому что ты ведь верный, суть твоя в этом. В верности. И ему, да и мне, если уж трезво рассуждать-то.
А только я не могу трезво. Завидую я этому чинито. Как увидел вас вместе — ну, может, я и легкомысленный придурок, но ведь не дурак, я сразу понял, что между вами не просто связь, общие какие-нибудь там дела, а слово, обещание. А твое слово — оно же нерушимое. Правда, грешен, однажды я все-таки подумал, что ты его на женщину променял. Господи боже мой, Лус, ну каждый же по себе судит… Да и недолго я так думал, правду сказать. Хотя пацану тому, фотографу, тоже так сказал — ну, грешен же, говорю. Потому что это была неправда. Хотелось мне очень, чтобы так было, ан нет. Поглядел я на нее внимательно и понял — сестра по несчастью. Как и мне, как и бедолаге Бо — ты ей тоже только друг верный, но не любовник.
Сестра, да… Я потому с нею и заговорил. Ох, если б только заговорил… Есть поверье, что с рыжими любиться — на горе, но тут я, видать, стал ей на горе, хоть и не рыжий.
Ну вот, вышел я тогда к ней из угла своего, смотрю — а она чуть не плачет. И тут я подумал — один человек нас обидел, один нашу жизнь заедает — почему бы нам друг друга не утешить? Я ведь, когда захочу, сладкий бываю, что твой мед, а огня мне всегда не занимать было. Ничего я ей о том, конечно, не сказал, просто улыбнулся, дал понять, что я не опасный, что только и хочу — согреть ее… А она, пташка моя, сидела там одна — такая бледная, и платье синее, а волосы — как золото. Губы у нее распухли, и внизу, знаешь, такая полоска отпечаталась — видно, кусала, чтобы только не заплакать. Подумал: целовать буду нежно, чтобы боли ей не причинить. А сговорились мы с нею быстро, она отважная была, не боялась, хотя чего там было меня бояться, я бы ее ни за что не обидел. Проводишь меня? — спросила в конце концов.