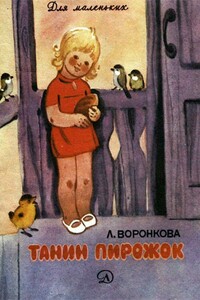Танги | страница 24
Наконец все смолкло. Крики больше не терзали арестантов. Танги совсем обессилел. Сердце его сжималось от этой давящей тишины. Он спрашивал себя, что могло случиться с Пюиделливолем. «Я не должен думать о других и все время мучиться за них, если хочу вернуться к маме», — подумал он вдруг. Он устыдился этой мысли, но тут же сказал себе: «Мне надо быть сильным… У меня никого больше нет… Никого…»
Дверь раскрылась, и снова свет ослепил арестованных. Их вытолкнули во внутренний двор и посадили на грузовики. Немецкие солдаты стояли цепью вокруг. Госпожа Пюиделливоль все плакала. С отчаянием в глазах она смотрела на дверь, за которой остался ее муж. Но он так и не вышел. Грузовик отъехал. Шум мотора заглушил ее крики. Танги их не услышал. Но он увидел две руки, с отчаянием протянутые к нему, и понял значение этого жеста. Он подумал, что такое движение могла бы сделать и его мать, и глаза у него наполнились слезами. Он поднял воротник куртки: приближалась ночь и, хотя осень еще не наступила, становилось холодно.
Танги снова заметил причудливый силуэт Эйфелевой башни. Впервые он увидел Сену. Серая вода в реке была так спокойна, что Танги не мог понять, в какую сторону она течет. Затем он снова сказал себе, что это не имеет никакого значения. Но ему все-таки хотелось знать, куда они направляются: вверх или вниз по течению…
Арестованных привезли на Зимний велодром. Там сотни, а может быть, и тысячи заключенных ожидали, лежа на соломе. У большинства из них были на одежде желтые звезды с черной надписью «еврей». Танги их не рассматривал. Опустив голову, он присоединился к группе детей. Их было около пятидесяти, в возрасте от шести до четырнадцати лет. Все они были евреи.
Танги уселся на землю, покрытую соломой. Ему стало холодно. Усталость, которой он раньше не чувствовал, свалила его с ног. Силы покинули его. Нервы, как слишком сильно натянутые пружины, внезапно сдали. Слезы вот-вот готовы были прорваться наружу. Сидевший рядом с ним мальчуган лет семи приветливо взглянул на него. Танги ответил ему взглядом и постарался выдавить на своем лице улыбку, но его душили слезы. И все-таки он не плакал.
Он вдруг ясно понял все, что раньше не вполне доходило до его сознания: он остался совсем один, с ним будут обращаться, как со взрослым мужчиной, он перестал быть ребенком. Им овладела безмерная тоска. «…Они не могут увести меня, — думал он, — они не имеют права… Я не еврей; я даже не француз… Ведь я испанец… Я объясню им, и они поймут. Тут, наверное, какая-то ошибка. Я поговорю с каким-нибудь начальником… Это ошибка администрации…»