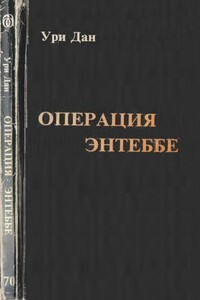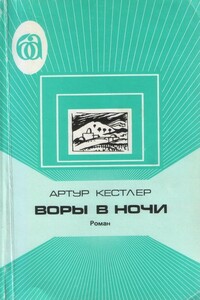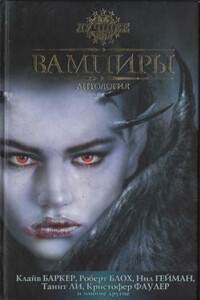Я себя до конца рассказала. Сборник стихов израильских поэтесс | страница 4
Стихи Элишевы близки по характеру и стилистике творчеству Рахел, но в них нет трагедийного накала страстей, типичного для стихов Рахел. Элегическое начало, тихая грусть о невосполнимых утратах и несбывшихся надеждах — преобладают в лирике Элишевы. Она не была сионисткой, хотя и прожила четверть века на земле Израиля. И если, издав в молодости две книги стихов на русском языке, она потом писала только на иврите, это объясняется лишь тем, что древний и вместе с тем молодой язык очаровал и покорил ее. Сама поэтесса писала в своей автобиографии: «Меня очень увлек и воспламенил этот язык сердца и грез…» Литературная критика по праву называет ее прозелиткой иврита, подчеркивая уникальность этого явления. Литературовед X. Торен справедливо отметил во вступительной статье к сборнику ее стихов «Ялкут ширим» (1970):
«Поэзия Элишевы, как и поэзия Рахел, дополняет то, что отсутствовало в свое время в стихах ее современников мужчин. Мы имеем в виду легкость мелодии, утонченность чувств при передаче интимных переживаний, простые и чистые настроения, от которых поэзия нашего поколения успела отдалиться на изрядное расстояние. Легко и естественно, без риторики и украшательства передает поэтесса свою тихую тоску по крупице счастья и душевного покоя, которые природа отпускает нам так скупо».
Если поэтессы, о которых мы говорили ранее, пришли к Эрец-Исраэль и ее древней культуре издалека, из других стран и других литературных миров, то Эстер Раб — дочь Израиля. Ей не пришлось привыкать к суровым сельским будням с их нелегким трудом под палящими лучами солнца — она познала их с молоком матери в Петах-Тикве. Не было необходимости и специально приобщаться к языку Библии и пророков, ибо на иврите она произнесла свои первые слова и другого языка в детстве не знала. Естественно, что в поэзии Эстер Раб зазвучали совсем другие нотки — резкие, подчас даже колючие, подобно характеру многих сабр (местных уроженцев). И не случайно свой первый сборник стихов она назвала «Терновники» (1930). В ее поэзии пейзажи, запахи и голоса родины — не экзотика, не предмет умиления и восхищения, а естественный фон привычной, будничной жизни. Поэтому в ее стихах так много образов и сравнений, заимствованных не из книг, легенд и сказаний, а прямо из живой природы и реального быта. О своем возлюбленном, например, она пишет: «Ты — как эвкалипт после бури: // усталый, сильный, качаешься на ветру». В минуту отчаяния она восклицает: «Спрячу в песке лицо свое, // как верблюд, ищущий пропавшие следы». Если для нашего европейского уха эти сравнения звучат экзотически и непривычно, то для уроженцев страны они совершенно естественны.