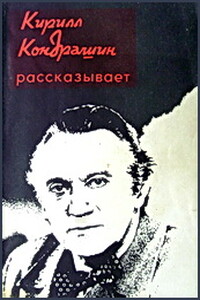Диалоги о музыкальной педагогике | страница 26
Эксперимент и наблюдение показали, что музыкант высокого уровня художественного развития строит свое исполнение музыки на основе этих признаков, к которым он относится как к настроениям, символам, — к тому, что может украсить и усилить его игру. Здесь музыкальное произведение, взятое во времени, целостно. Лично для этого музыканта оно, кроме всего прочего, представляет собою эмоционально-эстетическую программу, в которой каждый элемент произведения связан с определенным настроением. Выяснилось также, что один фрагмент произведения ”обслуживается” сразу несколькими настроениями. Получается то, что можно было бы назвать эмоциональной партитурой.
Читателю предлагается проанализировать эмоциональную партитуру первого предложения до-минорной прелюдии Ф. Шопена, Цифры под тактами означают интенсивность выраженности эстетического чувства в десятибалльном измерении. Обратите внимание на то, что эмоциональная структура этой части кажется сложнее ее музыкально-предметного состава (см. пример на следующей странице).
Чем выше уровень музыканта, тем более развита у него субъективная эмоциональная программа. Мастерски исполняемое музыкальное произведение не просто имеет какую-то эмоциональность, но достаточно определенное, строгое эмоционально-смысловое строение. Увидеть насыщенность эмоциональной структуры, сложность ее организации позволил опыт именно музыкантов-мастеров, которые раз за разом обогащали исполняемое ими произведение, извлекая из него все новые и новые эмоциональные значения.
Оказалось, что музыканты высокого уровня мыслят эмоциональными структурами еще до того, как они обращаются к реальному звучанию музыкального произведения, так сказать, физически.
В одной из серий эксперимента музыкантам давался уртекст (без обозначений) незнакомого, специально написанного для эксперимента произведения с задачей воссоздать все художественные слои этой пьесы в плане образного мышления. Первая серия — эмоциональный анализ этой пьесы, только глядя в ноты, не играя.
Когда с произведением работали упомянутые выше студенты, немногие среди них смогли обозначить эмоционально-образные характеристики. Одни обладали музыкально-образным мышлением в начальной степени, другие же начинали смело анализировать формальную структуру музыки по наглядным признакам. Если, скажем, они видели, что написанный фрагмент — часть целотонной гаммы, то сразу же объявляли его фантастическим и т. д. Если для музыковеда этот слой анализа мог бы оказаться полезным и приемлемым, то для музыканта-исполнителя он формален.