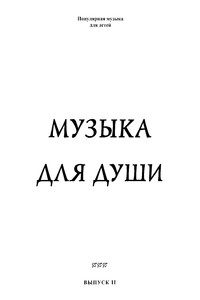«Картинки с выставки» Мусоргского | страница 8
Вариантность проявляется в «Прогулке» разнообразно. Уже в самой теме хоровой «подхват» — это гармонический многоголосный вариант сольного запева. Следующее предложение варьирует первое. В более широком масштабе господствует тот же принцип: средний раздел трехчастной формы основывается на изменении и развитии главной темы. А сколько раз в сюите прозвучит сама «Прогулка», неоднократно изменяя эмоциональную окраску, темп, тональность, регистр! Наконец, финал цикла — «Богатырские ворота»,— по мнению исследователей, это также мощный заключительный вариант главной темы цикла. Он близок «Прогулке» и радостно-утвердительным тонусом, и характером образов, связанных с ощущением мощи, масштабности, и даже тематически — перезвонами на трихордных интонациях.
Русский характер ощущается и в ритмах «Прогулки». Как и в старинных русских протяжных песнях, Мусоргский использует здесь переменный размер со свободным и неравномерным чередованием акцентов. Потому движение в «Прогулке» получается не маршеобразным, а мягким и «напевным». Правда, с середины пьесы устанавливается постоянный размер >6/>4, но внутри него продолжает «играть» ритмическая изменчивость — начала мелодических фраз попадают каждый раз на разные доли такта. Возникает эффект бесконечного обновления мелодии, бескрайнего простора возможностей.
Вариантность придает музыке «Прогулки» прелесть неисчерпаемого музыкального и душевного богатства. В воображении возникают необъятные горизонты русских лесов и полей. В этой музыкальной картине, написанной светлыми, солнечными красками и полной радостного ощущения душевной чистоты и ясности, видится и символический образ русского народа, и одновременно — «автопортрет» Мусоргского.
«ГНОМ»
«Вопреки наивным тенденциям об изящной нежности очертаний голых венер, купидонов и фавнов с флейтами и без флейт, с банным листом и вовсе „как мать родила", я утверждаю, что искусство антипатичное греков (хотел сказать античное) грубо. Толкают лилипутов верить, что итальянская классическая живопись совершенство, а по-моему — мертвенность, противная, как сама смерть. (...) Художественное изображение одной красоты, в материальном ее значении,— грубое ребячество — детский возраст искусства».
Из письма М. П. Мусоргского В. В. Стасову от 18 октября 1872 года
Рисунок Гартмана представлял зарисовку елочной игрушки — маленького неуклюжего уродца на кривых ножках, гномика. По-видимому, Гартман обратился к традиционному образу «щелкунчика» — щипцов для раскалывания орехов. Обычно он имел вид стилизованной человеческой фигурки с непропорционально большой головой и огромнейшим ртом (туда и вкладывались орехи). Отталкиваясь от гротескности и экспрессивности персонажа, Мусоргский как волшебник оживляет фигурку. С удивительной, гениальной точностью композитор выбирает музыкальные краски для воплощения в музыке фантастического портрета. Темная, мрачная тональность ми-бемоль минор лишена здесь теплых «человеческих» оттенков. Ломаная линия причудливой мелодии ассоциируется с быстрыми угловатыми движениями, а чередование быстро пробегающих звуков и длительных замираний на одном звуке — с движением перебегающего с места на место затаившегося человечка. Фантастичность образа усиливает и гармония с ее подчеркнутой неустойчивостью, неопределенностью в первой теме, с опорой на уменьшенный септаккорд и «хромающим» синкопированным ритмом — во второй. Еще от Глинки в русской школе идет традиция воплощения фантастики и сказочности через безжизненно-ровные звучания целотонной гаммы, уменьшенного септаккорда. Использует их и Мусоргский. Однако при всех устрашающих чертах гном у Мусоргского остается игрушкой: застывшая неустойчивая гармония и короткие форшлаги в окончаниях фраз придают музыке оттенок игрушечности, скерцозности, отодвигают трагическое в сферу сказочности.