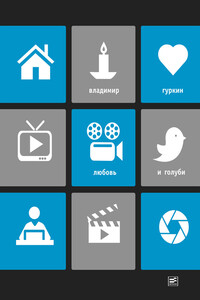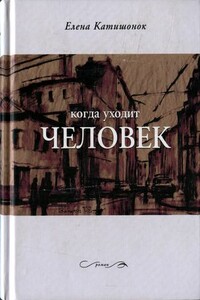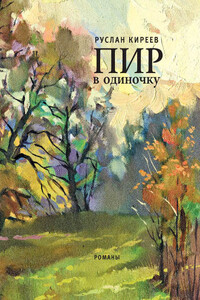Этот берег | страница 77
— В физические тела, которые называют себя экстрасенсами, конечно, верю, — ответил я. — В метафизические — нет.
— Старый циник, — сказала Агнесса.
— Да уж, ты бы не мудрил, — поддержал ее Авель. — Он же, заметь, нашел велосипед! — и, как бы ставя точку в разговоре, выпил свой стакан до дна.
Найденный велосипед нельзя было считать вполне удачей, и Гнат решил было, что экстрасенсу будет довольно и половины оговоренной суммы, но Наталья воспротивилась, Гнат с ней спорить не решился, экстрасенс получил все пять тысяч гривен — с чем и отбыл под Полтаву, в свой Пирятин.
…Пламя костра опало; дышали угли. Из тьмы возник участковый Зубенко, подсел, сказал устало:
— Не нашли, — взял из рук Агнессы тарелку неостывшего жаркого и принялся молча есть. Угли мерцали, потом понемногу погасли, и мы разошлись.
Уснуть мне дали, но выспаться не пришлось; я был разбужен голосами Авеля и Варвары. Их слов из-за холма было не разобрать, но разговор шел на повышенных тонах — и оборвался вмиг: должно быть, Авель и Варвара скрылись в доме, откуда уже не было слышно ни звука.
Часы показывали полночь, я попытался вновь уснуть, да без толку. Лежать в ночи тупой колодой, пересчитывая баранов, рекомендованных бессонному воображению, показалось мне оскорбительным. Я встал, зажег настенную лампу, достал из прикроватной тумбочки тетрадь, к ней гелевую ручку, и поелозил тумбочкой по полу, устанавливая ее перед собою так, чтобы придать ей статус письменного стола. Навис над разлинованной в клетку страницей и замер в ожидании, когда ночной влажный ветер выдует из головы труху, когда все эти бессонные бараны разбегутся и освободят простор для чего-нибудь осмысленного и основательного. То есть не для того пустого, что я привык себе наборматывать и даже иногда обрывочно записывать, но для чего-то неизбежного, последовательного, чего-то с признаками умысла и замысла… Однажды (но всего лишь раз) я уже был обуреваем этой самонадеянной, заведомо самодовольной жаждой. На мою тогда еще полупустую голову, на голое мое, тогда еще неопытное сердце свалилось вдруг неодолимое желание создать нечто такое, то есть такое что-то сочинить, в чем было бы все объято, все объяснено — да так, чтоб всех обставить.
Случилась эта дурь со мной, или дурня, как украинцы говорят, в прекрасном Ленинграде, в мою студенческую пору. И мне, как облачко, спустившееся с небес, уже мерещился герой — конечно, одинокий, неприкаянный, понятно, бедный питерский студент. Один лишь только я и видел это облачко, там, где никто другой не мог его увидеть: в духоте аудитории, в сыром трамвае, в тусклом коридоре ночного общежития, над стоячим столиком в углу кофейни, прозванной Сайгоном, в подвальной рюмочной на Чернышевского, в кафе-мороженом «Север», упрямо прозываемом коротким гордым словом «Норд», а в дни стипендии — в новооткрытом ресторане «Демьянова уха» на Горького, где, к слову, мне и был привит вкус к умело приготовленной пресноводной рыбе… Я щурил глаз, и морщил лоб, и покусывал карандаш, но облачко нигде, даже после двух-трех рюмок, не спешило обрести в моем воображении очертания живого человека, и самое досадное, что и после шести не собиралось подарить свою историю. Не получалось у меня ее придумать — и негде было ее взять. Хотелось бы из жизни, но жизнь вокруг была не той, что мне хотелось…